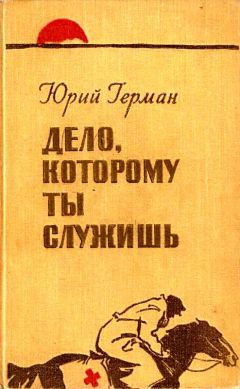Бен Элтон - Два брата
Перед глазами плыли слова: деликты, право, уголовное, гражданское, семейное, имущественное, торговое.
Удивительно, сколько законов требуется для цивилизованного управления страной.
А вот Гитлер плевал на закон. И на юристов.
В лепешку разобьюсь, но стану адвокатом, поклялся себе Стоун.
Будет бал
Берлин, август 1933 г.
В середине лета, первого из тысячи, запланированной Адольфом Гитлером для своего рейха, семейство Штенгель облегченно вздохнуло. Сдержанно, опасливо и все же облегченно.
— До сих пор мы в общем-то живы, — сказал Вольфганг, готовя сыновьям школьный обед — бутерброды с сардинами. — Два месяца назад я бы гроша на это не поставил.
— А я бы поставил, папа, — ответил Отто. Он уже расправился с овсянкой и в углу комнаты тягал гантели, что стало его ежеутренней и ежевечерней привычкой. — Пусть бы попробовали меня прикончить.
— Не скажи я папе, чего ты удумал, угрохали бы только так, — возразил Пауль.
— Ябеда чертов!
— Я спас тебе жизнь, дурень, — с полным ртом каши проговорил Пауль.
Отто промолчал, сосредоточенно выжимая гантели. Под кожей его перекатывались мускулы.
Фрида опустилась на кушетку.
— Как вспомню, и сейчас ноги слабеют.
— Ладно, прости, мам, — сказал Отто. — Просто я решил: пора уже втолковать этим свиньям, что нас, евреев, нельзя шпынять. Мы сильные. Гордые. И в конце концов их одолеем.
— Нас, евреев? — засмеялся Пауль. — Как ты вдруг завелся! Раньше тебе было плевать, еврей ты или нет.
— Да, а теперь не плевать. И если б ты не фискалил, я был бы евреем с пистолетом!
— Угомонись! — прошипел Вольфганг. — Не будем начинать сначала, ладно? Эта фиговина покоится на дне Шпрее. Откуда, похоже, ее и выудили, чтобы тебе впарить. Запомни, Отто: еврея с оружием, даже если это ржавая железяка, из которой не стреляли со времен франко-прусской войны, тотчас вздернут, невзирая на возраст. Ты понял? Казнят на месте.
Отто закатил глаза и продолжил гимнастику.
— Слушай отца, Отто! — От страха за сына Фрида осипла. — Ведь знаешь, на что они способны.
Неделю назад семью известных социал-демократов линчевали в их собственном саду. Они схватились за охотничье ружье, когда к ним вломились пьяные штурмовики. Через пять минут отца и двух сыновей, защищавших свой дом, повесили на одном дереве.
— Просто я хотел что-нибудь делать.
— Погибнуть нехитро, — сказал Пауль. — Это значит — ничего не сделать.
— Гитлер говорит, что мы трусы, — не сдавался Отто. — Однажды он увидит, каким храбрым бывает еврей. А ты-то что сделаешь, умник?
— Пока не знаю, но, уж поверь, когда дойдет до дела, я буду к нему готов.
— Чего? — не понял Отто.
— Буду готов.
— Как? Выучишься? Какой смысл в учебе? Работы не получишь, хоть тысячу экзаменов сдай.
— Кто знает? Возможно, когда-нибудь закон вернется. И тогда понадобятся юристы.
— Верно, Паули, — согласилась Фрида. — Слушай брата, Отто.
— Маменькин сынок! — фыркнул Отто.
Пауль игнорировал выпад:
— Больше того, с профессией я смогу содержать нашу семью, если вдруг придется уехать из Германии. А ты что напишешь в эмиграционной анкете? «Дайте визу, потому что у меня большие мускулы»? В Америке, знаешь ли, своих тяжелоатлетов хватает.
— И трубачей, — грустно добавил Вольфганг.
— Может, до этого и не дойдет. — Фрида сделала веселое лицо. — Как говорит папа, мы еще живы, правда? Отто, ступай оботрись. Таким потным нельзя идти в школу.
Конечно, в августе тридцать третьего жить стало заметно легче, считали Штенгели. Не сравнить с той официально санкционированной оргией жестокости, что весной достигла пика в бойкоте.
— Не хотят отпугивать своих новых дружков-промышленников и банкиров, — говорил Вольфганг.
Еврейские заведения никто не пикетировал, уличные избиения и грабежи прекратились, реже стали внезапные аресты, означавшие неизбежную гибель в концлагере.
Евреи вновь отважились передвигаться по городу. Правда, с оглядкой.
Не сказать, что жизнь стала радостной. Наверное, чуть менее опасной, но столь же унизительной и тревожной. Разнообразные запреты для евреев и цыган остались в силе. Был закрыт доступ ко многим профессиям. Больше не было евреев-судей и юристов. Евреев изгнали из армии, полиции и почти всей торговли. Ввели крохотную квоту на университетские места, а учебники еврейских авторов не просто запретили, но публично сожгли.
И все-таки жить было можно.
К своему изумлению, Фрида смогла вернуться на работу в больницу, которая теперь называлась «Медицинский центр имени Хорста Весселя», да и весь район Фридрихсхайн переименовали в честь любимого «мученика» штурмовиков.[49] Ей разрешили пользовать только евреев, но пациентов хватало, ибо иудеи не имели права лечиться у арийцев. К Фриде обращались даже состоятельные евреи, которые прежде и носа не казали в общественную клинику. К сожалению, ни Фриду, ни центр это не обогатило, поскольку полисы частных страховщиков не распространялись на врачей-евреев и все страховые взносы прикарманивало государство.
Однако Фрида, как ни странно, получала жалованье. Оказалось, без команды донацистская немецкая бюрократия функционировала в прежнем режиме, а новые команды принимала только письменные и в трех экземплярах. Неразворотливая государственная машина не могла быстро «деевреизировать» все структуры, и потому Фрида оставалась в платежных ведомостях, что обеспечивало семье относительно сносную жизнь.
Пауль и Отто ходили в ту же школу, но пребывали в постоянной готовности к атакам задиристой шпаны. Обстановка стала зловещей. По новым правилам занятия начинались с исполнения государственного гимна и «Хорста Весселя», в каждом классе висел портрет вождя. Учителя приветствовали учеников «германским салютом», а ученикам, под страхом порки, полагалось отвечать. Детей из еврейских семей пока терпели, но «освободили» от уроков истории, где их «проклятая раса» систематически обвинялась во всех бедах Фатерлянда.
Однако все эти передряги не сильно заботили Пауля и Отто. Тревожило то, что они давно не видели Дагмар.
После той кошмарной истории предмет вожделения напрочь исчез с их горизонта. По слухам, Дагмар и школу-то посещала кое-как, а уж на музыкальные уроки не ходила вовсе. Кроме редких записок в ответ на регулярные письма, стихи и гостинцы братьев о ней не было ни слуху ни духу.
— Боюсь, бедняжка никогда не забудет тот жуткий день, — сказала Фрида.
— Но ведь она не шибко пострадала, мам, — возразил Отто. — Мы успели ее спасти.