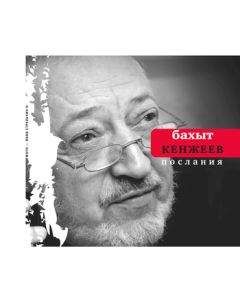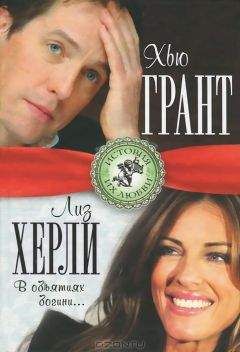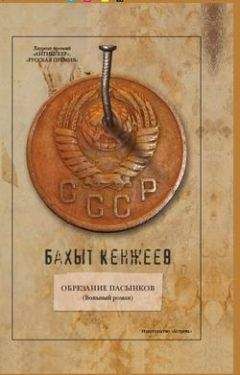Бахыт Кенжеев - Младший брат
Литература—один из ключевых участков идеологического фронта. И когда в нее с черного хода пытаются пробраться темные личности вроде Баевского, мало развести руками в горестном недоумении. Мало дожидаться, пока буржуазная пропаганда, выжав таких деятелей, как грязную тряпку, и потеряв к ним всякий интерес, выкинет их на свалку истории. Необходима активная, непримиримая борьба. Необходимо, чтобы свое веско слово тут сказал Советский Закон. И особенно важно это в наши дни в нынешней международной обстановке, когда миролюбивая Страна Советов взяла твердый курс на политическую и военную разрядку. Иные склонны смешивать этот курс с идеологическими компромиссами, забывая о том, что в сфере идеологии, как подчеркивал еще великий Ленин, у нас нет и не может быть никаких уступок буржуазному Западу. В этой сфере шли, идут и будут идти жесточайшие сражения. Советуем помнить об этом тем господам, которые рассчитывают поспекулировать на нашем стремлении к миру во всем мире».
Марк запихал скомканную газету обратно в сумку. Вместо созерцания выдохшегося пива на пожелтевшем пластмассовом столике надо было куда-то бежать, кого-то предупреждать, что-то делать... но Москва была в четырех тысячах километров, Литва еще дальше, да и сделать он не мог, в сущности, ровным счетом ничего. А через два часа, после окончания идиотского представления, его ждала работа. Он зажмурился и тихо-тихо, почти незаметно, застонал.
— Решил всех перехитрить?—засмеялась у него за спиной Клэр.—Я тоже не смогла больше. Постой... погоди... что с тобой?
— Неприятности.
— Из-за меня?
— Это еще впереди. На,—он расправил газетный лист,—читай. Читай, читай, черт подери! Мне добавить нечего...
— Боже мой,—она отложила газету,—какая подлость! Но здесь же все вранье, Марк! На этого автора можно в суд подать, за клевету.
— У суда теперь других забот хватит. Андрея могут забрать с минуты на минуту, если уже не забрали, конечно. Или если не произойдет чудо. Господи, пытался же я, старался, ну почему, почему?
— Слушай, Марк...
— Да?
— Кто же мог написать это? Что за скот?
— Там есть подпись, Клэр.
— Нет. Подписано «Литератор».
— Вот именно. Это псевдоним моего будущего тестя, милая. Если, конечно, он теперь когда-нибудь станет моим тестем.
Глава шестая
Лил дождь, густел туман и над Ленинградом в день прилета. По иллюминаторам Ту-134 стекали тусклые продолговатые капли, и среднеазиатские пассажиры со своими пахучими дынями и циклопическими арбузами как-то затравленно жались среди обширного и скудного северо-западного пейзажа. «Мы, ленинградцы, любим дождь,—щебетала очередная Лена,—говорят, наш город в дождь красивее, есть даже такая популярная песня...» Милых ее речей почти не слушали—видно, не один Марк упал духом от дождя, холода, вида тощих сосновых рощ, которые, правда, вскоре уступили место геометрическому узору бетонных предместий. Но мало-помалу они въехали в сам город—и поразились тяжелому великолепию столицы империи, и замотали головами, и защелкали затворами фотоаппаратов.
В последний раз проставив мелом номера комнат на сложенных в гостиничном холле чемоданах, Марк поднялся к себе. Тоска, одолевавшая его всю дорогу от аэропорта, сменилась тупой рассеянностью, сердце колотилось глухо и ровно. А за окном неспешно струилась широкая Нева. Красовались набережные, будто вычерченные свинцовым карандашом. Цепочка туристов под яркими зонтами тянулась от своего автобуса на знаменитый крейсер «Аврора», определенный на вечную стоянку вблизи гостиницы.
Даже горячая ванна не сумела вернуть ему ни доброго настроения, ни, главное, той деловитости, которая так необходима в последние дни работы с группой. Под конец тура даже самые симпатичные американцы порою откалывали неожиданные коленца: все уставали друг от друга, начинали скучать по дому, так что гиду Конторы поневоле приходилось быть вдвойне предупредительным, втройне вежливым и изобретательным—тем более что и ограниченный запас вечерних развлечений—ну, валютный бар, ну, театр, ну, цирк, ну, наконец, попойка в чьем-то номере—за две с половиной недели успевал порядком истощиться. В Самарканде к нему уже подкатывался делегированный от группы мистер Файф на предмет чаевых, точнее, той формы, какая для Марка будет в этом смысле наиболее удобной. По привычке объяснил ему Марк, что денег он не берет,— доллары брать опасно, рубли—глупо, а пускай туристы скинутся долларов по пять-шесть и купят для него в «Березке» советский магнитофон или японский транзистор. И за то, и за другое Марк без труда мог потом выручить рублей триста—свою зарплату за десять, примерно, недель. Правда, мог он и вовсе никакого магнитофона или транзистора не выпросить. Еще в самолете твердо решил Марк целиком свалить группу на ленинградскую переводчицу, никуда не ездить, ничего не делать. Могли рассердиться и обойти американскими милостями—ну и черт с ними. Однова живем.
— Заходите!—раздраженно крикнул он, услышав стук в дверь.— Заходите, хватит колотить!
Вошедшая Лена—оказавшаяся, впрочем, вовсе не Леной, а Ирой— застала его в халате, с сигаретой в зубах и початой бутылкой виски на столе. Она покраснела, Марк устыдился.
— Вы уж простите,—сказал он,—у нас долгий был перелет, с пересадкой. Встали в пять утра. Устал, как последний пес. И вдобавок, кажется, простудился.
— Правда?—участливо спросила Ира, присаживаясь на уголок жесткой гостиничной постели. Была она тоже из практиканток, миловидная, беленькая, длинноногая.—-Так бывает при резкой смене погоды. Хотите, принесу вам меда? С молоком?
— Откуда?
— Мед поблизости в магазине, и почти никакой очереди. А молоко в ресторане. Хотите? Она даже привстала, но Марк остановил ее.
— Мед, вино и молоко,—пробормотал он,—где только мед, вино и молоко... Не обращайте внимания, Ира. Это стихи. Их один очень хороший человек написал, его потом убили. Ну, справедливо ли? Благодарю вас сердечно, я сам надеюсь встать на ноги. Аспирин у меня есть, точней, не у меня, а у одной туристки, чуть ли не в соседнем номере.— Он заглянул в список группы.—Будем с ней болеть вместе, она тоже простужена. Только, боюсь, на экскурсии ваши ездить не сможем. И на завтрак, Ирочка, уж будьте ласковы, отведите их сами. Тут ведь шведский стол, если не ошибаюсь. Мы не опоздали?
Глубоко, ах, как глубоко сидят профессиональные инстинкты. Душа саднит, как никогда раньше, а язык знай лопочет свое, и губы сами собой складываются в довольно натуральную вежливую улыбку.
— Нашей группе оставили завтрак до полдвенадцатого,—-сказала Ира,—я попросила. А сами-то вы как?
— Обойдусь. А обед на три часа закажу сам, только уж не обессудьте, если нас там не будет. Выпить хотите? Тут совсем на донышке. Вот и хорошо,—сказал он поощрительно.—Группа вам не доставит никаких хлопот. Они у меня совсем ручные. Есть там такая Люси, вечно всем недовольна, но вы на нее наплюйте—просто климактерическая дура.
— Профессор...
— Дался им этот профессор! Небось, и о Грине вас предупредил Нет? Странно. А Берт — отличный мужик. Безобидный либерал, даже социалист в некотором роде. На правах человека чуть задвинут, но ведь все они, с Запада, такие.
Он еще раз отказался от «хотя бы молока», а когда за Ирой захлопнулась дверь, воровато налил себе сразу полстакана. «Вот так-то, он скорчил рожу настольному зеркалу,—такие-то вот дела, и что это спрашивается...» Вскоре он уже спал мертвым сном, а за окошком снова наползал на город безысходный туман, снова заморосило, и на пустынной Неве закипели белые барашки волн. Сколько можно путешествовать, сколько можно на ревущей механической птице взвиваться в голубую фиолетовую бесконечность, где не на что опереться ни душе, ни телу, сколько можно в напряженном ожидании спускаться по трапу на чужую землю, не оставляя надежды, непрестанно вымаливая у небес, только что покинутых тобою, хоть чуть-чуть облегчения, просветления, покоя? 0тветь мне, город, величественный, будто труп императора на погребальном катафалке, откуда такая невыносимая тревога? Дыхание спящего углублялось разглаживались морщины на лбу, он не услышал стука в дверь, не проснулся и когда Клэр вошла в комнату и села с ним рядом. Какие сны ему виделись—Бог весть. А печальная его подруга гладила его по взъерошенным волосам, и город все дальше уходил в дождь и туман... «Смотри—из голубого далека на землю падает прощальный свет Господен сонная красавица-тоска безмолвствует. Отныне ты свободен. Лети один в безудержную высь, лежи в саду, где пыльные оливы, молись и плачь, но только торопись. Жизнь коротка, и судьи молчаливы. Сто лет пройдет. Смоковница умрет. Граница ночи в проволоке колючей ощерится—и разойдутся тучи, в песок уходит кровь, уходит пот. Вот так и мы уходим, скорбя, и птица спит за пазухой живая—пусть мытари пируют без тебя из уст в уста свой грех передавая... »