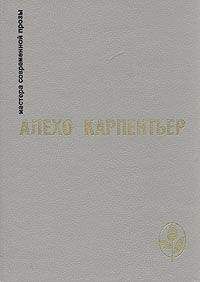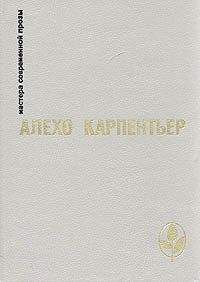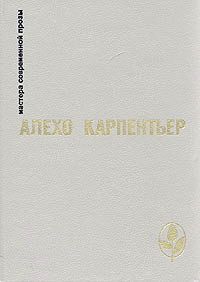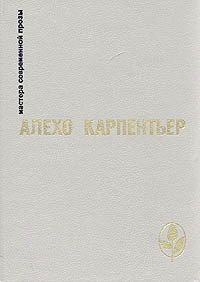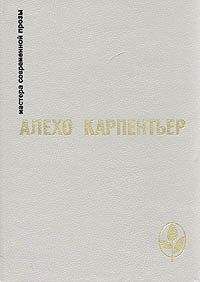Алехо Карпентьер - Превратности метода
Однако по мере того, как строительство Образцовой тюрьмы подходило к своему завершению, страну охватывал недуг — кризис, бросавший, к разочарованию многих, вызов плодородию щедрой, как никакая иная, почвы, почвы сказочных — обещаний: — еще целинных земель, урожайности обработанных полей, тысячелетнему гумусу, бесконечным лесам (сельва по территории больше всей Бельгии…), глубоко залегшим минералам в обильнейших, неоценимого богатства жилах. Всем располагали мы тут: пространство, земля и ее плоды, никель, железо. Мы были привилегированной страной в Мире Будущего. Вон там — доклады Министерства сельского хозяйства и развития. Чтобы оценить все великолепие нашей земной действительности, достаточно пробежать взглядом убеждающую трассу статистических данных, диаграмм и расположенных в колонки цифр квартальных балансов, а также пояснения экспертов, футурологические уравнения, подчеркнутые красноречивым присутствием той или иной буквы древнегреческого алфавита, поставленной на подходящем месте.
Несмотря на все эти меморандумы и переплетенные фолианты, представлявшиеся ему ежедневно, Глава Нации, как только окончился проклятый оперный сезон и уже можно было думать о нем ретроспективно, в свете финансового календаря, пришел к выводу, что под оркестровые прелюдии и ферматы теноров сахар Республики потерпел потрясающий урон, и это отмечено на сводных таблицах бирж всего мира. По 23 сентаво за фунт платили за наш сахар, когда Николетти-Корман, потрясающий Демон восхвалял Золотого Тельца. При исполнении североамериканского гимна, который звучит в первом акте «Мадам Баттерфляй», цена на сахар упала до 17.20. До 11.35 сбавилась при постановке «Таис»: «Александрия, ужасный город», — пел Титта Руффо. Роковым был день премьеры «Риголетто», а еще говорят, что горбуны приносят счастье, — цена на сахар снизилась до 8.40. Перемешанные колоды карт четвертого акта «Манон» ускорили падение цен, а с катастрофой «Аиды» цену сбили до 5.22. Наступила пора карнавалов, и сахар — прославленный герой всей и всяческой латиноамериканской буколики — потерпел полное поражение, склады заполнились непроданными мешками, и цена равнялась всего 2.15 сентаво за фунт…
Однажды утром — внезапно, как всегда у скупых на слова, — недавно учрежденный Международный банк объявил, что приостанавливает выплаты до нового извещения. Испанский банд, Банк Мирамон, Коммерческий и сельскохозяйственный банк, Строительный банк молча, лишь с сухим треском захлопнули свои окошечки, тогда как Национальный банк и Clearing House[264] наводнили страницы газет сообщениями и извещениями, обещаниями; советовали сохранять благоразумие и доверие, чтобы предупредить панику, которая, опустошив скромные сберегательные книжки, мизерные семейные текущие счета, уже добиралась до мира большого финансового бизнеса. Советом министров положение расценивалось, по утверждению прессы, как «случайное и временное».
Правительство призывало к спокойствию, к выдержке, напоминало о патриотизме. Никаких очередей, никакого беспорядка. Мораторий — слово, доселе неизвестное публике и воспринимавшееся некоторыми как нечто, по звучанию близкое к мертвым, к завещаниям, — представлялся верным средством поправить всё искореженное в какие-то недели и несколько успокаивал взволновавшиеся души.
Подошло время карнавалов, и в гаме и шуме уличных шествий — «компарс» и «гайюмбас», под звуки китайских труб и негритянских барабанов начался Праздник масок с конкурсами на маскарадные костюмы и колесницами поразительной выдумки, как, скажем, «Венецианский Буцентавр», получивший особую премию, хотя и было чрезвычайно трудно протащить эту колесницу до трибун жюри, поскольку еле-еле прошла она под телеграфными проводами, чуть не задевавшими ее носовую часть, где стояли догарессы[265], сверкавшие мишурой. Своевременно наступило шумное веселье: как это бывало издавна, в столь важном в жизни страны событии люди, словно очистившись душевно среди себе подобных, забывали вражду или риск. В такие дни и бдения у гроба с покойным проводились без плакальщиц, и телефонные коммутаторы оставались без телефонисток, и булочные — без муки, и грудные дети — без материнской груди. Плясали, пели, шатались туда-сюда, и каждый, не вспоминая о порядке и о часах работы, о каких-либо обязательствах или обещаниях, спешил утолить свой аппетит, разгоревшийся за месяцы поста. Многие женщины прикрывали голое тело лишь домино — маскарадной накидкой с капюшоном. Под защитой капюшона, маски или дешевой личины позволяли себе всё. Пели, плясали в парках, под навесами беседок, во взятых штурмом кафе; миловались на площадках Национальной обсерватории, под арками мостов, в подъездах, украшенных изображениями святых, среди сорняка в предместьях — и даже на папертях церквей устанавливались палатки, с продажей крепких напитков — гуарапо, чаранды, кокуя и агуардьенте. С вечерней зари до утренней. и с утренней до вечерней традиционные карнавальные братства возрождались — с пальмовыми ветвями, в перьях цапли, с ожерельями колдунов, в одеяниях дьяволов, с картонными акулами, пружинными змеями, в масках людей-соколов, людей-коней, людей-драконов, уродливых одеждах, в древних играх, привезенных из Африки, либо в столь давних ритуалах, что изначальное предназначение терялось в тысячах и тысячах ночей, прошедших с того дня, когда их создали далекие предки. В плясках, в играх с серпантином, в конкурсах, к избрании королев красоты с коронами из позолоченного картона, в процессиях гигантов и голов с пивной котел, в чередовании тюрбанов и ходуль пролетела целая неделя удовольствий, отдыха, танцевальных ритмов, обжорства и попоек.
И совершенно неожиданно в водовороте бесшабашного разгула некие арлекины — лица их были обтянуты черными чулками — начали стрелять по полицейским; некие цыгане, нанятые играть в «Кармен» и не вернувшие винчестеры, предоставленные им для выступления в акте с контрабандистами, вдобавок увезли винтовки и револьверы из казармы Санта Барбара, погрузив оружие в кареты «Скорой помощи» Красного Креста; некие участники карнавальной группы «Помпадур», одетые в костюмы лососевого цвета, в надвинутых на глаза париках, бросили бомбу в полицейский комиссариат Пятого района Столицы, освободив более сорока политических заключенных. Во Втором районе некие наши индейцы — похоже, батраки с плантаций хенекена[266], — но переодетые под североамериканских краснокожих, совсем как в кинофильмах о «Диком Западе», опустошили засекреченный арсенал ручных гранат и тотчас исчезли в толпе; трое анархистских вожаков были высвобождены из тюремных камер некими молодчиками, выдававшими себя за агентов службы безопасности; снежной метелью разлетались сброшенные со шпиля Святого Сердца и с купола Капитолия прокламации и манифесты, призывавшие к революционному восстанию.
Уже ставшее привычным потрескивание и шипение ракет-шутих и петард, сопровождавшее шествие «свиты» карнавального короля и бога Момо, вдруг заглушили резкие, отозвавшиеся громовым эхом взрывы. Вслед за безобидными ампулочками хлористого этила, что проказники наловчились запускать вместо сосульки льда за декольте женщин, полетели бомбы со слезоточивым газом — метко поражающее изобретение, запущенное в ход полицейскими силами; кавалерия, ни на что и ни на кого не обращая внимания, разметала аллегорические представления и хороводы; верещание картонных пугал, пронзительный писк свистулек сменились криками пострадавших от сабельных ударов и конских копыт; и в панике, смешавшей всё на свете — и формы, и цвета, — военными мундирами были вытеснены карнавальные костюмы. Веселую пестроту красок смыла, вытравила сдвоенная гамма: песочно-синяя. Грозным приказом Президента карнавалы запрещались, а Образцовую тюрьму набили ряжеными. И послышались стоны, предсмертные хрипы, и стискивались на горле гарроты, и бормашины дантистов сверлили здоровые зубы, и свистели плети, обрушивались дубинки, и глухо отдавались пинки в пах, и мужчин подвешивали за щиколотки и запястья, и людей заставляли днями напролет стоять босиком на остром ободе колеса, и голых женщин, подхлестывая бичом, гоняли по коридорам, бросали на пол расхристанных, изнасилованных, с обожженными грудями, с раскаленными докрасна гвоздями, вонзенными в плоть; и были расстрелы ложные и расстрелы настоящие; и в недавно воздвигнутые стены, еще отдававшие запахом свежей штукатурки, вкрапились капли крови и капли свинца пистолетных пуль; и выкидывали людей из окон верхнего этажа, и вздергивали их на дыбу, и распинали, и переводили на Большой Олимпийский стадион, где было просторнее и потому удобнее расстреливать сразу массу, не теряя времени на построение взвода или роты для казни; и были также те, кого втискивали в четырехугольные ящики и обливали цементным раствором, а затем блоки выстраивали в одну линию на тюремной стене под открытым небом, и столь многочисленными оказались они, что окрестным жителям пришла в голову мысль: власти-де собираются продолжать строительство здания… (Много лет минуло, пока не стало известно, что в каждом из блоков находились останки человека в маске и карнавальном наряде; фигуру его бережно сохранило твердое покрытие — человеческий облик превосходно отлит был в камне.)