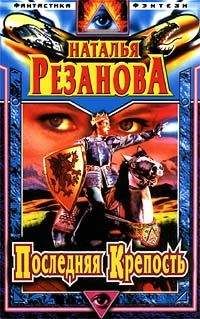Елена Крюкова - Золотая голова
Аллилуиа!
Свечи в церкви пахнут теплым медом.
— Хочу пирога… и меда, — сказал он слабым, неслышным голосом, беззвучно, и татарин понял его, закивал: меда, как же, да, у меня есть, в банке, в тумбочке, жена принесла!.. зять сам гнал!.. а кураги тебе неохота?.. тебе жена принесла, тоже в баночке, вон у тебя на тумбочке стоит… меда именно?.. на, покушай… на, сердешный…
Он почувствовал, как в рот ему, в сгнившие зубы, втыкается ложка, и из нее на язык, в глотку льется сладкое, нежное, душистое. Мед. Вот что последнее дано ему вкусить. Он хотел рыбы; он хотел пирога; он их не получил, зато получил мед, — а уж как он любил в жизни живых пчел, суетящихся в изготовленьи своей древней амброзии. И Христос любил сотовый мед. Вот, он перед Уходом своим ест пищу, что ел Учитель; это хороший знак. Он проглотил мед, улыбнулся татарину, не открывая глаз, и по его впалым щекам из-под закрытых век потекли жаркие слезы, прожигая борозды на коричневой сморщенной коже — два соленых прозрачных резца, прорезающих на живом лице панихидную кириллицу Смерти.
Мед мне дают в болезни, с ложечки. Хвостик у ложечки витой, серебряный. Мед, бело-желтый, засахаренный, выковыривается — сугубо для больного чада — из толстостенной банки, куда был налит стариком-пасечником, бородатым старовером, на зимнем Мытном рынке. Заметеленный Мытный, нищенка сидит в сугробе, с костылем. В ее шапке просверкивает медь. Мы идем через густоволосую метель в ряды, где написано над головами торговцев: «ЦВЕТЫ. МЕД. МОЛОКО.» Там стоят бабы в белых нарукавничках, с Гималаями творога на лотках, с лопаточками в красных от холода пальцах, с бочонками сметаны, в которой торчком стоит ложка, и перетаптываются угрюмые морщинистые староверы с топазовыми слитками меда на жестяных пластинах, в бидонах и банках. Зима, и мух нет, не жужжат они. Мороз. Мед течет на морозе тягомотно и клейко, нескончаемо; бесконечно. Его не нацедить. Слежу — птичьим зраком — как образуется, вслед за каплей, свисающий с деревянного черпака медовый волос еле видимой толщины. Вот и он оборвался. «Вам придется еще лимон приобресть!.. Лимон к медку-то!.. От всех скорбей!..» Берем и лимон. Меня заставляют есть его с кожурой. Скорби, где вы?
Хвороба настигает за грехи мои. Лежу пластом, горло обвязано марлей, махрами, жаркими платками. Хорошо, сладко болеть. В болезни тебе прощают все обиды. В болезни тебя кормят с ложечки. От меда ноют сладко, поют за щеками зубы. «Доченька, вот я ставлю мед и чай на табуреточку, около кровати. Захочешь пить — попьешь. Не уронишь?.. Ты слышишь меня?..»
Я слышу — слышу — все слышу — только уже в бреду, в сонной горючей красноте. Красные круги плывут перед глазами, красные нимбы — над плывущими во тьме головами: это же картина, это икона «Церковь воинствующая» из Третьяковки, у нас такая репродукция в кожаной папиной папке есть. Слышу позвякиванье ложки в чашке — чай остыл — долей ей, Коля — у нее сильный жар — ох, надо бы в больницу — я врач, я сама справлюсь — какой ты врач, ты голый врач — Николай, не смей меня оскорблять — дай же ребенку градусник — не видишь, она вся малиновая — еле дышит — как бы отека легких не было — что ты мелешь — лучшие средства народные — липовый цвет — малина — мед — мед — от меда все пройдет…
…а ангелы с красными кровавыми нимбами из «Церкви воинствующей» все плывут и плывут, все держат копья наперевес, собираются проткнуть остриями кого-то плохого, неверующего, — Фому Неверующего, быть может. Боженька, Ты есть. Ты в отцовой книжке «Бiблiя въ рисункахъ Гюстава Дорэ», 1897 года издания, разрешено Св. Синодом и Московской Патриархией. Ты слышишь меня. Ты не дашь мне умереть. Я люблю Тебя, но я не хочу к Тебе на небо. Рано мне. Это не мое время. Не бери меня. Мне страшно умирать. Я же не воскресну, как Ты, золотой. И Фома Неверующий, тряся козлиной белой бородой, залитой мелкими слезами, ни за что не вложит свои персты в мои распахнутые, как красные окна, рваные раны.
«Лапонька!.. Лапонька!.. Она спит…»
«Я сделаю ей куриные котлетки…»
Как это прекрасно — сидеть в подушках, горло обмотано, смазано чем-то гадким, на коленях, на одеяле — кружевная салфетка, и на салфетке — тарелка с куриною котлеткой (как из старинных романов!..), а в ней торчит косточка, ну прямо Диккенс, а мать даже не садится рядом, она стоит в проеме дверей и умиленно глядит, как спасенный ребенок ест.
— Можно добавки?..
— У курочки только две ножки… Пошла на поправку!..
Еще не скоро осмелюсь я испечь свой Пирог.
Еще — ой, не скоро — я своему ребенку в глотку буду глядеть, молоко кипятить, мед от днища банки трясущейся от страха рукой отколупывать.
Еще меня самое — пекут, и подхожу я тестом на опаре, и румянюсь со всех сторон, и Адамова, Евина глина обжигается в печи, то оглашенно пылкой, то смертно ледяной.
Еще не стою я на коленях — в снегу, в комьях мерзлой грязи — перед отцовой могилой, затерянной в декабрьских полях. Не чую в гортани, сведенной судорогой позднего рыданья, под праздным, вельми много болтавшим чушь языком, жалкий столовский студень со свеклой закрашенным хреном и черствые — дурные — «с котятами!..» — сиротские пирожки поминок, их черный рис, их казенный компот, их ртутно горящую в зеленых глупых бутылях, слепую водку, от которой немеют лоб и пальцы, как от хирургической анестезии, — хоть режьте, ничего не почувствую, — нет, чувствую, все — с болью. С кровью. С любовью. Чувствую все, вижу. Светлую улыбку отца в гробу; «он — в Раю!..» — глухо, сотрясаясь от сухих слез, шепчет мама. Красный кумач и трубную медь зимних похорон. И то, как на ремнях могильщики опускали гроб в ямину, а земляные срезы были рыжи, золотисты, — как красивый, из ведра, на солнечном Мытном рынке, огромный груздь, — и я рванулась вперед, сжала кулаки и твердо подумала, жестко, что вот ЭТИМ, только ЭТИМ все и кончилось — вся жизнь, огромная, дымная, залитая Солнцем всклень, шумная, любовная, вкусная, с поцелуйчиками — после стопочек муската либо хереса — в сладкие вишневые губы матери моей, с полночной рыбной ловлей, с художническими пьянками-гулянками, когда всего откушавшие и хлебнувшие — и грибков, и зельца, и расстегаев, и перцовки — заросшие лесными бородами художники, с пылающими безумьем глазами, орали на весь опьяневший с ними вместе подлунный мир:
«Только Евдокимов,
Только Крюков длинный
Могут четвертную вам достать!..» —
на мотив: «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза», — с писаньем в мансардах питерской Академии, в заваленных древними креслами и гнилыми — на растопку печей — досками подкрышных мастерских — нагих замерзших натурщиц, и одну из натурщиц звали Фрина, и у нее от отца родился ребенок, — брат мой, брат мой, стал ли ты художником на этой земле?!.. лишь художник на земле счастлив и свободен!.. — с игрой на гитаре, перебором ее медных струн, от которых хоодело и плыло молодое сердце, с рожденьем беспутного сына — весь в шалого отца пошел!.. — с оплакиваньем уходящих женщин, с рожденьем дочки — долгожданной, после внематочной присмертной беременности второй жены, и с дочкиным крещеньем, совершенным просто от отчаянья, когда младенец орал, не смыкая рта, безостановочно без малого целых два месяца, и ее, чтобы Дьявола в ней унять, понесли крестить в осеннюю грязь, и бабушка с завернутым кокончиком на руках поскользнулась в грязи и упала, чуть не раздавив крохотного живого червячка, а в церкви батюшка зажал ребенку нос и на вопль матери: «Не окунайте!.. Простудится!.. Заразится!.. Ангина, дифтерит!..» — нарочно окунул ее с головой в ледяную купель трижды, как и положено по Закону, а прогундосив: «Крещается раба Божия Елена…» — поднес к губам младенца чайную ложку кагора, а она ртом ложку-то ухватила и кагор весь заглотала, и все люди в церкви выдохнули: «Сомлеет!..» — и она спала потом без просыпу двое суток, как хороший, в миру, мужик-пьяница; вся великая, смелая, хулиганская, с драками и праздниками, с Новыми Годами и Днями Рожденья, с укусами гадюк, упавших с дерева в сапог, в густых лесах, с дрожаньем мелкой дрожью на дочкиных концертах, когда она училась на фортепьяно, а после на органе, — люстры, свечи, зал, рев органа под родными, любимыми, хрупкими пальцами, и где-то далеко, на последнем ряду, чтоб не видно было, как он любит, как страдает и гордится, — плачет лысый, с серебряными крыльями волос вокруг медной коричневой лысины, старик, — а ведь он похож на святого Николу, на Николая Чудотворца, как его обычно малюют на иконах по канону, как две капли воды похож, как это никто раньше не догадался!.. — вся проеденная, пропитая, промотанная, продутая в бумажные и деревянные трубы, вздернутая на рыбацкие лески и бельевые веревки, проспанная до полудня, проспоренная, профуканная в азартные игры до полуночи, похмельная поутру, проклятая, возлюбленная, трижды, по староверу протопопу Аввакуму, благословенная жизнь кончится у всех только ЭТИМ, вот ЭТИМ, когда на ремнях тяжелый молчащий гроб в могилу опускают, а вся жизнь — там, внутри гроба: маленький комочек, почти зародыш, ссохшийся, нежный, любимый. Он внедряется в чрево земли. Он будет там расти.