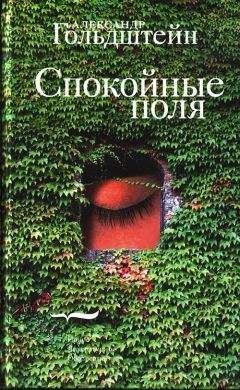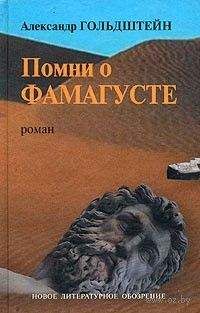Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
Охваченная музыкой революции, эта уже не столько чаемая, сколько открыто заявленная культурная целостность, оперевшись на технику, порождает вагнерианское искусство будущего-настоящего — быстроходное судно глиссер. Искусство, техника, авангардная политическая философия объединяются тут в методе интенсивного воздействия на среду, пересозданную творцом глиссера — артистическим человечеством, о котором тосковал на вершине своего максимализма Блок, заимствуя мифологему у Вагнера. Невиданное дотоле движение, подобно гуманизму возникшее из духа музыки, стремится к выработке уже не этического, не политического, не гуманного человека, а человека-артиста. Коренным его свойством, акцентированным в «Крушении гуманизма», будет жадность к жизни и действию. Та самая жадность ненасытной и свежей крови, что заставляла гидраэровских благородных парней, о которых Карасик говорил профессору Токарцеву, и замерзших судоремонтников в саратовском затоне, о которых он говорил ему же, заглатывать, как кашалоты, что ни попало — всю мировую культуру, дикарски и творчески ее синтезируя на свой музыкальный лад.
Произведение искусства будущего, согласно Вагнеру, написавшему одноименный патетический трактат, создается художником будущего, и, задавшись вопросом, кто же им станет: поэт? актер? музыкант? скульптор? — автор без обиняков отвечал, что на эту роль может претендовать лишь народ, которому мы обязаны самим художеством. Народ, великий избавитель и благодетель, предстанет в этом искусстве как целое, и все мы объединимся: носители необходимости, познавшие бессознательное, позволившие непроизвольное, свидетельствующие о природе — счастливые люди[80]. Если же подойти к делу более приземленно и попытаться определить непосредственных исполнителей эстетических замыслов, то от анонимной всеобщности демоса легко умозаключить к братству художников, которое и возьмет на себя труд революционного творчества. Искусство и его институты («Искусство и революция») могут сделаться провозвестниками замечательных коммунальных учреждений, а корпорация художников послужит моделью для всех прочих организаций[81]. Индивидуальная свобода в коммуне творцов есть результат коллективной жизнедеятельности сообщества. Одинокий всегда несвободен, и тот, кто требует самостоятельности для себя одного, добивается результата обратного — своей полной зависимости («Произведение искусства будущего»).
Новые принципы воплощает в романе Кассиля гидраэровское сообщество, создавшее глиссер. Локальный на первый взгляд коммунализм инженерного и рабочего братства лишь прикидывается эксцентричной киновией в мире более персонализованного существования. Реально же его обступают многоразличные проявления современной ему коллективности, пусть и не доразвившейся до строгого общежительного устава; кроме того молодое сообщество окружено широкими волнами русской религиозной общественности и соборного проективизма. Коммуна «Гидраэр» — новая церковь, устроенная внутри церкви старой с бессознательным учетом ее конструктивных особенностей. Это церковный палимпсест с не до конца отмененным нижним слоем, продолжающим излучать пережиточную энергию. Общежитие гидраэровцев, пишет автор, помещалось в бывшей церкви Никола-на-Островке: на хорах и в приделах были устроены уютные комнатки, местом же общих сборов служил большой церковный зал, названный кают-компанией. Знамя коммуны было укреплено в царских вратах, кое-где проглядывали незамазанные лица угодников, окруженные взбитым паром облаков. Кафоличность новой церкви, которой предстоит собрать под своими сводами религиозное человечество тружеников и артистов («Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть!»), подчеркнута прямой «глобалистской» метафорой, обрамленной иронически-восхищенным, как и весь роман, контекстом: «Он отбежал в конец зала и стал там, где когда-то были церковные врата. Мяча под рукой не было. Оглянувшись, Бухвостов схватил со стола большой глобус, снял с ножки и бросил в Антона. Ловким приемом вратаря Антон поймал головой желто-голубой глянцевитый шар… Антон стоял в царских вратах. Не целиком закрашенные угодники плавали за его плечами на взбитых облаках. Рослый и плечистый, он держал над головой модель планеты».
2Наряду с глиссером в процитированном выше разговоре Карасика и Токарцева был упомянут футбол, сфера преимущественной активности «Гидраэра» и центральное в романе произведение искусства будущего-настоящего. Его местоположение — Стадион, принадлежавший к числу важных локусов советского античного социализма. Утвердившееся внутри себя государство к тому времени захотело, дабы зерцало вечных вод выдало иное, чем прежде, его отражение, постреволюционное, стройное, идеальное, более греческое, нежели римское, и вполне преуспело в этой интенции, заполонив плодами ее стогны своих городов и сформировав новые очертания советского мира. Экспансия классических образцов в визуальную среду тридцатых, как известно, была очень значительной: утопическая ипостась большого стиля социалистического реализма (Белинков советовал не путать его с реалистическим социализмом) достигла в те годы своего наивысшего великолепия. Как едва ли не всякая устремленная в будущее идеология, она поминутно оглядывалась назад, справедливо усматривая в классицистически интерпретированной архаике источник полезной энергии. «Древний пластический грек», сказал бы Козьма Прутков, а другой писатель добавил бы, что у интересных явлений жизни всегда бывает двойной лик, обращенный к прошлому и будущему — они прогрессивны и регрессивны одновременно. Просторный и соразмерный архитектурный ландшафт, пропорциональные площади и проспекты, украшенные изваяниями, сады и парки с садово-парковой же скульптурой, чистые линии высотных домов и зеркальный мрамор метрополитена, реабилитация классики и традиционной системы образования, так что философия, упраздненная революцией, вновь вернулась под университетскую сень, — государство пестовало в себе античность, потому что, в мучениях пережив революцию, оно отныне желало стабильности, а что могло быть стабильней сверхисторического сияния греков, их прекрасного эйдоса?
Государство построило Стадион. Словно окруженный менадами Дионис, он явился советскому миру в вакхическом ожерелье футбола и физкультурных парадов — массовых игрищ язычества. Стадион кодифицировал телесные нормы, представив бодрую плоть на всеобщее рассмотрение. Он привел к отелесниванию всего визуального окоема, где живой физкультурник породнился со своим целлулоидным киноподобием, а они оба соперничали в красоте с неогреческой статуей пролетария, вознесенного в поднебесную нишу советского конструктивистского билдинга. Утопия идеального тела, домогающегося совершеннейшей нравственности, становится одним из важных мотивов культуры того времени. Этот завораживающий проект с лабораторной чистотой реализован в фильме А. Роома «Строгий юноша», где миром управляет античное атлетическое целомудрие, преодолевающее либидонозные заросли фрейдианских сновидений. Молодые атлеты, отзывчивые к опытным прикосновениям массажиста — он, вероятно, их умащает каким-нибудь благовонием, как то подобает богатой палестре, или гимнасии, или бетонной раздевалке стадиона «Динамо», — аскетически собеседуют на темы морального кодекса будущего с привлекательными девушками спортивного типа, и восхищенья достоин отрешенный гекзаметр речей, и блаженно отсутствие полового желания, которое, перекипев, все изошло в гармонию тела и духа. Это платоновский диалог в завершающей стадии пира, когда, отставив побоку утомленных юношей, Сократ с Диотимой договорились о первосущностях идеальной любви.
Стадион был чашей жизни советской общественности, советского общенародного тела с его архаико-модернистским соматическим каноном, и здесь происходит вторжение в проблематику, связанную с идеями М. Бахтина (его книги о Ф. Рабле) и имеющую, как будет видно в дальнейшем, прямое отношение к теме данного текста. В последнее время эта проблематика подвергается интенсивному переоценивающему облучению.
Еще в 70-е годы А. Лосев в «Эстетике Возрождения» с позиций христианского морализма отверг как мерзость бахтинскую концепцию гротескного тела с его материально-телесным низом (заодно он отверг и сам роман Рабле), а сегодня на первый план вышли попытки доказать сходство идей Бахтина с тоталитарным контекстом. К примеру, С. Аверинцев пишет, что тоталитаризм, хорошо знающий цену всему неготовому, незамкнутому, пластичному, имеет специальный интерес к тому, чтобы «преувеличивать эти аспекты сущего», окружая их ореолом амбивалентного смеха и воспитывая в человеке ощущение себя одновременно ребенком и трупом, — это и есть пресловутая амбивалентность рождающей смерти. Людям потому и следует быть незавершенными, несовершенными, неготовыми, чтобы их можно было лепить, ваять, перековывать, используя их детскую пластичность и постоянно уравнивая это вечное детство со смертью, ребенка — с трупом[82].