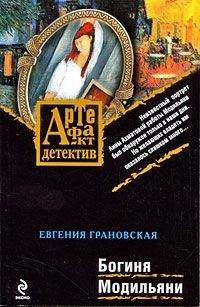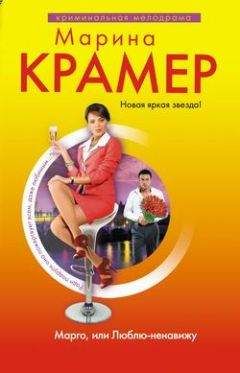Денис Гуцко - Бета-самец
— К тетке уехал. В Саратов.
— Я по-о-онял, — протянул Сема таким тоном, будто был искренне удивлен тем, что действительно понял Топилина.
— Весной обещал наведаться. Я пока присматриваю.
— Понял. И за моей заодно присмотришь. Сразу видно, приличный человек, не колдырь. И Сережа такой же. Не пил, ничего… Так, значит. А то вдруг съехал, не предупредил… У тетки он, значит.
Сема начал похихикивать, пригласительно эдак: «Не правда ли, смешно как? Весело как, не правда ли?» Налаживал контакт.
Разыграть перед соседом бездомного горемыку, одноклассника Сергея, показалось Топилину недостаточно. Сема располагал к большему. Вся его оплывшая, но подвижная фигура, и звенящая бодрость, и плохонькие ботинки, натертые до блеска, — предупреждали: внимание, счастливый обыватель.
— Слушай, — сказал Сема вкрадчиво и замолчал с таким видом, будто уже догадался о чем-то важном, но решил подумать еще секунду. — А Сережа не собирается, случаем, дачу продавать?
— Собирается, — сходу согласился Топилин.
— А за сколько?
— Не знает пока. Просил меня выяснить к весне насчет цен. Покупателя подыскать.
Сема колыхнул бедрами, напомнив Топилину Боба, когда тот принюхивается и всматривается, пытаясь понять, пора ли молотить хвостом в знак величайшего уважения к кормильцу — или этот подозрительный тип опять вынес несъедобную гадость.
— Мил человек, так я ж тот, кто ему нужен, я, — выдохнул Сема с тихим стоном и погладил себя по груди. — Пусть мне продаст. Я и цену дам, — он улыбнулся. — У меня ж свояк на пенсию собрался. Хорошо бы ему дачкой на пенсии обзавестись. Нам бы тут бы рядышком.
Вскоре они сидели в доме Семена, возле шипящей, трепещущей синим цветком газовой плиты, и пили из термоса чай с малиной. Чай с малиной был хорош.
— Я еще такую наливку делаю… ммм, — подкатывал Сема глаза. — А какие у нас тут огурцы! Сергей, тот не любитель с землей возиться, факт. А нам бы только дорваться.
К чаю прилагались теплые домашние пирожки с рисом и яйцом, напеченные Семеновой женой. Знал, знал толк в мелких усладах. Ехал всего лишь дачу осмотреть, проверить, не потекло ли где, не разбило ли ветром окно, — а на десерт себе припас малиновый чай с пирожками, с видом на заснеженный сад: заботливо подрезанные деревья, кусты, обвязанные на зиму мешками. В том, как Сема промокает пролитые мимо чашек капли — уголком салфетки, чтобы не переводить сразу всю, как он долго пристраивает стул — чтобы на удобном расстоянии от стола, но и в стенку не утыкаться взглядом, в том, как улыбчиво и благоговейно он обхаживает нужного человека, — чувствовалась основательность, с которой не пропадешь.
И она всерьез раздражала Топилина.
Он понимал, он видел, что и сам, по большому счету, — такой же Сема. Разве что сортом повыше. По крайней мере, был.
«Нет, позвольте! — мысленно возражал Топилин. — Изначально-то не ради мещанского рая старался. Так вышло. Само приложилось… А этот, с малиновым чаем…»
— Если рядышком со свояком здесь осесть, может, и совсем сюда перебрались бы. Протянут же сюда когда-нибудь газ и воду. Тут раздолье. А что вертолеты, так то ерунда. В городе машины, какая разница. Мы бы на двух участках чего бы только не вырастили. Может, даже улей бы завели. Свояк у меня мозговитый.
Рассказывал вроде о даче — получалась одиссея о путешествии по молочной речке вдоль кисельных берегов: сорок банок огурцов этим летом закатали, пять банок малины, а как хорош шашлычок на свежем воздухе, да с помидоркой, только что сорванной с грядки… Слушая Сему, Топилин вспоминал о своем собственном, брошенном на произвол судьбы свежеотремонтированном доме.
Он съездил домой неделю тому назад.
Выстирал одежду, принял пенную ванну, как любил — с коньяком и сигарой. Походил по комнатам в халате и мягких тапочках, пиццу в микроволновке разогрел.
Проклятая пыль была повсюду. Рита Анатольевна явно забросила уборку. На кровати в спальне — записка: «Александр Григорьевич, месяц я доработала. Жду дальнейших указаний. Позвоните, пожалуйста».
«Ну вот, доработала, — усмехнулся Топилин. — А как же, позвольте, ответственность? Преданность? Как же забота о хозяйском имуществе? Хозяин пропал в круговоротах эпохи, но старая верная служанка продолжает содержать вверенный ей дом в идеальном порядке. Ждет, так сказать, и верит, все тряпки стерла, дожидаючись… А сколько было преданности холопской во взгляде, упреждающей угодливости. “Завтра, Александр Григорьевич, ветер обещали. Вы, я заметила, окно на ночь приоткрываете. Так я теплое одеяло на нижнюю полку переложила. Если, не дай бог, замерзнете ночью, чтоб долго не искать”. Обманщица! Вот всё мне ненастоящее досталось, всё. Даже холопство».
— Хорош кочевряжиться, — сказал он вслух, усаживаясь в любимое кожаное кресло. — Ты и сам ненастоящий.
Вот кресло — настоящее. Мэйд ин Итали, Gardini. Пять лет как куплено, а до сих пор как новое, кожа мягкая, ласковая.
В окне, в дальнем конце улицы, — угол дома Литвиновых.
Когда он был женат на Вере и они занимались любовью в этом кресле, Вера просила не задергивать шторы: все равно стекла тонированные.
Дом нужно будет продать.
Документы на фирму Антон вполне мог отредактировать. С фирмой можно не рыпаться, наверное.
Всё придется начинать заново. Без Антона. А без Антона он не умеет.
«Рано пока. Чуть позже», — заверил он себя и уехал в «Яблоневые зори», прихватив теплые носки и фотоаппарат.
— Все хочется тебя Сергеем назвать.
— А?
— Задумался? Говорю, всё хочется тебя Сергеем назвать. Одежда-то его. Так и вертится на языке.
— Как говорится, хоть горшком, только в печку не ставь.
— Кстати, он у меня кипятильник одалживал.
— Да, на кухне лежит. Принести?
— Не-не. Пользуйся. Это я так. Вспомнил. Ты с Сережей-то созваниваешься?
— А как же. Часто. Отсюда, правда, плохо берет.
— С других мест еще хуже. Здесь лучше всего по поселку прием.
— Созваниваюсь. Раз в неделю.
— Так, может, ты меня и сосватал бы. Как покупателя. Чего тянуть-то? Аж до весны?
— Я цену пока не выяснил.
— Я и цену тебе выясню.
Сема смотрел влюбленным взглядом.
— Ты ж смотри… Я не могу друга подвести. Буду цену проверять.
— Проверишь, само собой. А если что, так мы со свояком в долгу перед тобой не останемся, — сказал Сёма и подмигнул многозначительно.
Топилин многообещающе промолчал.
Рассмешил его Семён.
Такие же простофили попадались Топилину в его любореченской жизни среди муниципальной мелочовки, субподрядчиков, начальничков по хозяйственной части. Вскочить бы сейчас да рявкнуть: «Вы что же, мне взятку предлагаете?!» Уделается от удивления. А потому что не понимают, малохольные: в благородном коммерческом откате ничуть не меньше результата важно ощущение избранности. Важен стиль. Он срабатывает как система «свой — чужой». Не упрашивай женщин, не выгляди похабно, предлагая откат.
Сёма придвинул судок с пирожками поближе к горящей конфорке — чтобы не остывали и заглянул в чашку Топилина: не пора ли подлить дорогому гостю.
«Нет, с этим тошнотиком нужно кончать».
Сам собою вспомнился Шанин. Чокнутый капиталист, городской сумасшедший от бомонда. Вот таким же гладкокожим, которые не пропадут, — вываливал он, заталкивал в уши свои признания тюремного петуха. Чтобы не лыбились уж слишком благостно.
Топилин проследил за тем, как Сёма сложил вчетверо льняную салфетку, накрыл ею крышку заварного чайника, — и уселся поудобней.
Придется немного подправить, адаптировать к современности…
— Откинулся гол как сокол, — вздохнул Топилин и отхлебнул чаю. — Ни одежды, ничего. Жить негде… Я ж один, без семьи.
Он неторопливо выбрал самый румяный пирожок, понюхал, откусил половину.
— Хорошо вот так, домашнего пожевать после казенных харчей.
Сёма покивал сочувственно.
— А-а-а, ты из тюрьмы? То-то я смотрю, в чужой одежке. А за что сидел, если не секрет?
Топилин скорбно задрал брови.
— Валюта. Банкоматы в городе потрусили. Так, несильно.
— Вон что. И много дали?
— Пять лет общего режима. А взял-то сущую мелочь.
— Ого. Пять лет.
Помолчали, прихлебывая.
— Так что, поможешь с покупкой? — потащил его Сёма назад, к животрепещущему.
Топилин невольно поморщился. Сделал вид, что не расслышал.
— Когда меня в первый раз на зоне изнасиловали, — сказал он, глядя Сёме в глаза, — я вешаться пошел.
Полюбовавшись разинутым Сёминым ртом и зардевшимися щеками, продолжил:
— Ремешок у меня был. Узкий такой, брезентовый. Место нужно было присмотреть. Не везде же и повесишься.
Смотрел на Сёму так, как смотрел на своих слушателей Шанин, тихо и неторопливо рассказывая свою историю — с насмешкой: «Что такое, лапочка? Не ожидал услышать такое? А ты послушай».
— Вышел за бараки, иду. Слева бараки, справа стенка, цеха. Вышка сзади. Иду, в горле ком. Ни за что, по беспределу козлы опустили. Начальник им приказал. Ну и вот… Пошел, значит, вешаться. Возле медпункта надзиратель стоит, звонит кому-то. Переглянулся с ним. Он отвернулся. Думаю: последний человек, которого я в жизни своей увижу. А небо синее. Воздух медовый. Решил: за предпоследний барак зайду, там — к водосточной трубе, и до свиданья… Дошел. Труба. Что, говорю себе, давай. Как теперь жить? И все такое. Отомстить не сможешь. Это ж не кино, и ты не Ван Дамм. Будешь теперь петушком. Пять лет впереди… Стою так, смотрю на трубу… ржавая такая… И голос внутри: не торопись, отобьешься в следующий раз… опаской резанешь, отобьешься. Я ему: заткнись. А он опять: да не парься, вот увидишь, отобьешься, покури пока. И сигарета, как назло, последняя в пачке. Как издевка. Сигарета, говорю ему, последняя, это знак. А он мне: какой, на хрен, знак, у тебя в другом кармане еще пачка. Уговорил. Не повесился я.