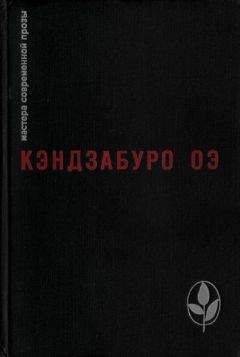Кэндзабуро Оэ - Опоздавшая молодежь
Однако из всех членов Общества сражающейся Японии больше других интересовал меня двадцатитрехлетний Митихико Фукасэ, он представлял юридический факультет Киотоского университета. Даже со стороны Митихико Фукасэ, говоривший с мягким киотоскнм акцептом, казался мне юношей с картин сюнги.[11] Митихико Фукасэ тоже в упоении демонстрировал себя, только свою непомерную, болезненно раздутую жажду власти и готовность к любому насилию. Это возмутило меня, вызвало инстинктивное желание противостоять ему. Именно Митихико Фукасэ явился пружиной, бросившей меня в самую гущу Общества сражающейся Японии.
Скоро я заметил, что и Митихико Фукасэ присматривается ко мне. Какое-то очень недолгое время это щекотало мое самолюбие. Он заговорил со мной после жаркой дискуссии в комитете самоуправления на последнем этаже нового здания одного из частных университетов, недалеко от станции Отяномидзу. Мы спорили весь день и наконец собрались расходиться. Я смотрел в окно на толпу студентов вечернего отделения, объявивших голодную забастовку (это была забастовка против повышения платы за обучение, и в обществе никто ею не интересовался), тогда-то ко мне и подошел Митихико Фукасэ. Он сам заговорил со мной.
— Смотри-ка, ночь на дворе, — сказал он. — Животы подвело, теперь сами не рады, что кашу заварили.
— Угу.
— Ты ни разу у нас не выступал. Почему это, а?
— Я до сих пор не могу разобраться, что на самом деле представляет собой общество.
— Приглядываешься или шпионишь?
— Вы действительно без конца обсуждаете какие-то тайные планы насилия, и я удивляюсь, неужели вы не боитесь шпионов? Члены вашего общества напоминают мне обитателей космоса, прибывших на Землю на летающих тарелочках, они не знают что такое полиция и совершенно ее игнорируют. Почему это?
— Верно, это ты верно заметил, — сказал Митихико Фукасэ и оценивающе посмотрел на меня. Я обратил внимание, что глаза у него с легкой поволокой, но взгляд острый, и вспомнил, что такие же глаза стали у Икуко Савада после того, как она забеременела.
— А ты бы хотел, чтобы мы дрожали перед насилием или чтобы, как вон те, объявляли голодную забастовку? — насмешливо сказал Митихико Фукасэ, не сводя с меня своих острых глаз. — Отсутствие настороженности и благодушие могут заронить сомнение в реальности планируемых нами насильственных действий? Так? А мы не хотим взвинчивать себя. Мы не унизимся до шпиономании, это удел слабых.
— Значит, мне удалось проникнуть к вам только благодаря тому, что вы специально культивируете беспечность? Не будь этой противоречащей здравому смыслу идеи, потребовалось бы несколько месяцев, чтобы мы привыкли друг к другу. А сейчас я не задумываясь бегу, как собака на гонках, в одной упряжке с остальными членами общества.
— Слушай, а ты интересно рассуждаешь, — сказал Митихико Фукасэ, по-прежнему не спуская с меня глаз. Мне показалось, что в его взгляде мелькнуло подозрение. Но в чем он мог меня подозревать?
— Интересен сам факт: общество без всякого сопротивления открывает двери первому встречному, и вот я в самой гуще студенческого движения. В студенческих аудиториях царят подозрительность и недоверие, дух одиночества и злобы. Никто по-настоящему не привязан друг к другу. Солидарность, дружба — об этом любят поговорить слюнтяи с отделения французской литературы, а вообще в университете такая валюта не котируется. Чем отличается университет, так это разобщенностью студентов — каждый сам по себе. Слабоумные студентки женских университетов пишут романы, в которых заставляют чувственных девиц вопить, что, только ложась в постель с мужчиной, начинаешь верить в любовь. А кто их заставит поверить в дружбу, если в университете невозможны нормальные человеческие отношения? И, только когда я пришел в общество и был принят вами как свой, я испытал нечто новое для меня — возможность разделить нависшую над тобой опасность между всеми поровну, и это по-настоящему пробудило интерес к студенческому движению.
— Ты, значит, почувствовал у нас стремление к дружбе и солидарности? А вот я, включившись в студенческое движение, прежде всего решил отбросить всякие преходящие стремления. Дружба, солидарность преходящи, во всяком случае, для нас, молодых. Поэтому я от них отказался. Я должен стать профессиональным революционером. Я считаю, что, если не освободиться от всех соблазнов, которыми так богат мир, от всех преходящих стремлений, стать активной силой любого движения невозможно. Нужно отказаться от всего. Ненавидеть этот мир, этих людей. И тогда, я думаю, удастся прожить жизнь настоящего, как я понимаю, революционера. Если меня убьют из-за угла, я восприму это как приятное путешествие в иной мир из ненавистной действительности и с благодарностью пожму окровавленную руку убийцы. Я такой. Чувство дружбы, солидарности — все это дерьмо. Особенно дружба, она главная опасность студенческого движения. Чувство солидарности — это еще ничего, потому что оно принадлежит к области нереальной. Да ты, наверно, и сам это заметил в нашем обществе…
Неожиданно погас свет. Митихико Фукасэ в панике закричал. Это был крик, проникший в мое нутро. Еще и сейчас, стоит мне закрыть глаза, у меня в ушах, в багровой тьме, звучит этот крик, истошный вопль, который издает человек, когда на него всей тяжестью вдруг обрушивается страх. Но чего Митихико Фукасэ так испугался? Я не сразу и сообразил, но вдруг мне все стало абсолютно ясно.
— Как, вы еще здесь? — спросил хриплый голос Наоси Омори, и в комнате снова зажегся свет.
— Тебе, наверно, не мешало бы отбросить еще и чувство страха, — сказал я, собравшись с духом.
— Чувство страха — давнее оружие революционера, — ответил Митихико Фукасэ, ничуть не смутившись своего вопля, — хорошо, что мы потрепались, я окончательно убедился, что парень ты интересный.
— Эй, вы, пошли, что ли? — позвал нас Наоси Омори. Голос его разнесся эхом по пустому зданию.
— Омори помыкает тобой, как хочет, — сказал Митихико Фукасэ. — Когда примут решение об очередных акциях, ты будь начеку. Он не задумываясь возложит на тебя ответственность за все. Недавно в южной части Осака мальчишка, только что из деревни, убил главаря банды. У нас это назвали «южным вариантом». История такая: они вшестером взяли главаря своих противников и держали его под дулами пистолетов. Раздалась команда стрелять. Пятеро бандитов вроде бы чуть замешкались, а пистолет мальчишки выстрелил. И тогда пятеро бандитов заявили мальчишке: «Ты преступник». Омори понравился «южный вариант». Смотри, не окажись в положении деревенского мальчишки.
Наоси Омори, Митихико Фукасэ и я спускались по лестнице. Наоси Омори слышал конец фразы, но улыбнувшись, пропустил ее мимо ушей.
— Все это потому, что Митихико Фукасэ не верит в солидарность, — сказал через некоторое время Наоси Омори.
— Может быть, поэтому я и не представляю опасности. Я бы, например, никогда не допустил, чтобы девушка с больным сердцем бежала вместе со всеми во время демонстрации, как это сделал ты.
— Еще бы!
— А когда эта студентка умерла, у меня даже не было слез, а ты плакал. Наверно, потому, что веришь в солидарность.
Я почувствовал, что Митихико Фукасэ кокетничает с Наоси Омори. Мне вообще казалось, что в Митихико Фукасэ проскальзывало что-то женское. Похоже, Наоси Омори все это улавливал.
— Фукасэ, как у тебя сейчас с легкими, все в порядке?
— Когда меня в следующий раз арестуют, потребую, чтобы сделали рентгеновский снимок.
— Тебе бы следовало одновременно с остальными преходящими стремлениями отбросить еще и героизм. Отбросить и стремление к пораженчеству — попытку выйти из студенческого движения по болезни.
На этот раз Митихико Фукасэ промолчал.
— Послушай, ты, кажется, заинтересовался нашим обществом? — сказал Наоси Омори, обращаясь теперь ко мне.
— Да.
— И я так подумал. Постепенно будешь глубже входить в наши дела и в конце концов органически сольешься с нами.
— Еще одна птичка, — раздраженно выкрикнул Митихико Фукасэ. — Ладно, я пошел. В такую темную ночь быть вместе с человеком-ловушкой просто страшно. До свидания.
— До свидания, до свидания.
— До завтра.
Я шел по темной ночной улице, подскакивая, точно негр в пляске. Будто у меня перегрелось сердце. Я стоял, дожидался последнего автобуса, когда с темного неба посыпались, искрясь, снежинки и закружились в круге, очерченном фонарем. И я пожалел собак в клетках, выстроившихся за клиникой, как бы они, бедные, не замерзли. Это был гуманизм, уже давно не посещавший меня.
— Вступай официально в Общество сражающейся Японии, — сказал мне однажды Наоси Омори. И тогда я понял, что до сих пор был для него всего лишь сторонним наблюдателем. Я уже привык к тому, что в Наоси Омори и его товарищах крайняя широта взглядов уживается с крайней осторожностью, и чувство удивления, испытанное мной прежде, несколько улеглось.