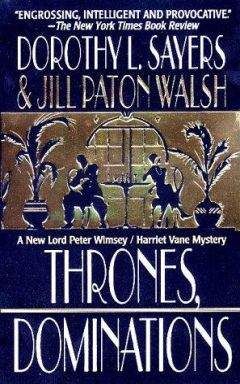Маргарет Мадзантини - Сияние
Официант ушел, Костантино уселся рядом со мной с бутылкой граппы и двумя бокалами.
– Ну как тебе клецки? Понравились?
– Не то слово!
Он принялся шутить, открыл дверь, и в ресторан ворвался запах вечернего города. Зажглись огоньки сигарет. Мы посмотрели друг на друга, рюмки наполнились граппой, заговорили каждый о своей жизни. Я рассказал, что Ицуми больна, что все изменилось. Сказал, что мне жаль упущенного времени.
– А как у тебя?
– У меня все отлично.
Но я успел разглядеть его кабинет. Смятую постель, рубашки в пакетах из химчистки… Дорожный фургон, а не офис.
– Ты ночуешь здесь?
– Иногда бывает. Заканчиваю очень поздно, нет сил идти домой.
Он склонил голову, почесал затылок. Мы сидели совсем одни, среди пустых столиков. Он развел руками. Широко улыбнувшись, Костантино признался, что жизнь катится под откос, жена его презирает, он наделал кучу ошибок. Его партнер по бизнесу вляпался в какую-то мутную историю с векселями. Депутаты прежнего созыва наели в кредит, но теперь никто не придет и не заплатит кучу оставленных ими счетов. Нынешним не до того. Да и Джованни уже большой. Справляться с ним стало сложнее, у него появились сексуальные потребности. И опять начались припадки.
– Я никуда его не отпускаю, разве что до газетного киоска. Здесь все его знают, но я все равно боюсь, стараюсь держаться рядом. Кто угодно может его обидеть, а он не в состоянии и слова сказать.
Я увидел, что он дрожит: нога тряслась и билась о стол. Я протянул руку и положил ему на колено. Он успокоился. Все как тогда, я ничего не забыл. Мы смотрели на пустой зал, в ночь, от которой оставались считаные часы.
– Надеюсь, ты получил наследство, разбогател?
– Да уж, на целую картину, да и та подделка.
Мы посмеялись над тем, как нелепо порой обманывает нас жизнь.
– Ты хоть иногда расслабляешься? – спросил я.
В его помутневшем взгляде я уловил напряжение.
– Это ты у нас живешь в городе сексуальной свободы, уж ты-то наверняка расслабляешься, разве не так?
Он уставился на меня, под глазами виднелись темные круги, белки глаз пожелтели. Он опрокинул бутылку граппы и жадно приник к горлышку, точно это была обычная вода. Потом сжал губы и рыгнул в бутылку. Я никогда не видел, чтобы он пил вот так. Я подумал, что он, как всегда, очень одинок, что мне не нужно было приходить сюда, встречаться с ним. Я представил, что совсем скоро он станет дряблым, дряхлым стариком. С возрастом на наших лицах проступил отпечаток души – неуверенной, смущенной, лживой. Он поднял бутылку и протянул ее мне с грустной и умоляющей улыбкой. Вставил мне в руку бокал.
– Спасибо, я лучше не буду. Я и так уже пьян.
Катафалк припарковали у подъезда, дверь нараспашку. Служащие похоронного бюро ждали меня у бара. Трое приятных ребят, мы даже немного поговорили о кризисе, охватившем страну. Магазин игрушек на углу, куда я так любил заходить ребенком, и тот закрылся, и в этом я видел тревожный знак. Только похоронные конторы не закрывались, скорее наоборот, зарабатывали все больше. «Сейчас полно самоубийц», – признались эти трое. Я заплатил за кофе. Вошел в лифт в компании троих мужчин, одетых в темные костюмы, как в фильме «Матрица». Мне было не по себе, слишком тесно. Да еще эти профессиональные приемы, непроницаемые лица, от избытка чувств мне даже захотелось рассмеяться. Пыхтя, они с трудом протащили гроб по лестнице, чтобы оставить его на кладбище Прима-Порта в очереди других таких же гробов, которые следовало сжечь и развеять прах. Дядя не хотел ни траурной церемонии, ни могилы.
Я вышел на террасу. Купол собора Святого Петра был совсем рядом: протяни руку, и дотронешься до его светлого тела. Воздух еще не нагрелся, слабые порывы ветра разрезали сплошные облака. Я устал – почти не спал. Вернулся в комнату, снял с вешалки дядин халат и надел его поверх рубашки. Сделал несколько звонков насчет дядиной библиотеки, но ни одно заведение не хотело ее принять. Многие книги были с очень хорошими иллюстрациями, их зубчатые края хранили следы от ножа для разрезания бумаг. Для Дзено они были реликвией, без него я не имел права к ним прикасаться. Мне стало грустно от мысли, что его сокровища не стоили ни гроша. Я собрал в мешок то, что смог унести, а насчет остального решил договориться с одним из уличных продавцов, что держал книжные лотки, у которых останавливаются только бедные пенсионеры. Я задернул пыльные шторы, окинул прощальным взглядом погрузившееся в сумерки святилище. В дверь позвонили. Это был он.
– Привет.
– Заходи.
Он огляделся:
– Ты один?
– Да.
Мы уселись на кухне.
Он сказал, что уезжает, отвезет Джованни в Апулию, к своим родителям, ненадолго оставит у них.
– Кофе будешь?
У него были мокрые волосы, он пах гелем для душа.
– Прости.
Я на секунду закрылся в туалете, неизвестно зачем, просто выдохнуть. Я присел на край чугунной ванны, служившей оранжереей для мертвых цветов. Потом вернулся на кухню. Костантино уже не было.
Он стоял у дядиной кровати, широко расставив ноги, сложив руки за спину. Часовой у мавзолея. Он смотрел на письменный стол, на зажженные мною белые свечи в пепельнице. Воск уже расплавился и застыл. Он снова стал для меня самым дорогим, самым родным на земле человеком. Он знал, что дядя был моим последним родственником со стороны матери.
– Что это ты нацепил?
– Его халат.
– Тебе идет.
Я почувствовал, как задыхаюсь в его объятиях, как его голова склоняется надо мной, и испытал полное опустошение. Я обернулся, пытаясь заглянуть ему в глаза. Он зажал мне рот, прижал меня затылком к стене, оцарапал. Его поцелуи спускались все ниже. Я снова ощутил его тяжесть, запах. Вспомнил вкус его кожи, его слюны, все остальное. Но мне было слишком хорошо знакомо это самопожертвование. Я понимал, что потом будет боль и будет одиночество, и с ужасом думал об этом «потом». Он ступил на темный путь – путь изгоев. Тот, на который я готов был свернуть много лет назад. Он попробовал наскочить на меня, я оттолкнул его. Он был возбужденным, счастливым.
– Как хочешь, как хочешь, все, что пожелаешь!
Он снял штаны, и наклонился передо мною, встав на колени, в точности так, как в детстве, когда играл в лапту, и улыбнулся покорной и милой улыбкой:
– Ну давай же, прошу тебя!
Я видел, что он слетел с тормозов, его ноздри раздувались жадно и возбужденно. Лицо исказилось в гримасе, тело корчилось, точно его рвали на части. Словно он страдал и хотел страдать снова и снова, чтобы возродиться и опять броситься в пропасть. Я потащил его за собой по полу, точно мы – два спаривающийся насекомых, и шептал ему на ухо слова любви и угрозы. Я ни разу не сомкнул глаз. Я впервые внимательно смотрел на происходящее, разглядывая каждую капельку пота, каждое содрогание тела. И не увидел в этом ничего прекрасного. Я вновь вспомнил его, одетого в жалкую рясу наподобие длинной белой туники, которая волочилась по полу и собирала подолом грязь, когда он ходил вслед за священником благословлять квартиры жильцов… Я почувствовал, что нахожусь в его власти, хотя в роли жертвы был он. Я больше не противился ни себе, ни ему. Страх потери исчез, я понял, что давно потерял его. Я терял его каждый раз, когда мы занимались любовью. Он уносился прочь, замыкался в темном каменном склепе, куда никому не было доступа. Мне хотелось помочь ему, защитить, излечить его душу, погрузиться в ее глубину. Но не там я искал глубину, ибо тело не способно ее подарить. Я не знал его сердца… Я успевал увидеть лишь тень крыльев. Какая-то часть меня продолжала сиять, не желая примириться с болью, которая готова была вот-вот обрушиться. Теперь я – опытный мужчина, а не только что вылупившийся птенец. Я свободен, я могу получить от жизни все, что захочу, включая грубый секс. Но мне было нужно другое. Я любил и понимал, что буду любить его до конца моих дней. Но я не знал, кого я люблю, он оставался для меня темной лошадкой. Я почувствовал, как мой член поник, обессилел.
– Прости, не могу.
Я оторвался от него, резко вскочил на ноги и подумал, что это в последний раз. Пора поставить точку. У меня не было сил начинать сначала. Я чувствовал себя так, словно излечился от неведомой болезни. Я не стронулся с места; не веря себе, я сосредоточился на своих ощущениях. Не телесных, нет. На ощущениях, которые испытывала моя душа. Я знал, что сейчас он встанет и уйдет, быстро натянет свое тряпье и побежит изображать отца семейства. Я ждал того момента, когда изменится его лицо, когда он повернется ко мне, резко попрощается и уйдет. Но теперь это не имело значения. Я отпустил бы его, единственное, чего я хотел, – это чтобы он больше не возвращался. Я надел брюки и закрылся в ванной – переждать, пока он не уйдет. Я посмотрел во двор и почувствовал знакомое одиночество, знакомое желание прыгнуть вниз.
Потом вернулся в комнату, чтобы одеться. И увидел, что Костантино не сдвинулся с места. Он стоял у окна, обнаженный, повернувшись спиной, и тоже смотрел во двор.