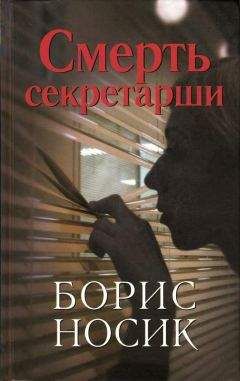Свет в конце аллеи - Носик Борис Михайлович
— Пошли, сынок, пошли, — мирно приговаривал Железняк, уводя Юрку, хотя внутри у него уже начала подрагивать какая-то плохо пригнанная кишка.
Он понимал, что это предрассудок, но все еще никак не мог привыкнуть к публичным скандалам, словно бы стеснялся чего-то. К тому же Юрка, без сомнения, одержал бы над ним сокрушительную победу.
Два дня без просыпу шел снег, и казалось, что он засыпал весь мир, начинавшийся за стенами отеля, — дороги, селения, города. Отель был отрезан от всего мира, и казалось, что жизнь там, в этом внешнем мире, остановилась. У дверей отеля стоял дежурный инструктор, который никого не выпускал наружу. Склоны гор, нацеленные в долину, заряжены были многотонными лавинами. У входа наспех намалеванный плакат предупреждал о лавинной опасности. Это вносило новую, романтическую ноту в жизнь горнолыжного отеля и всемерно способствовало потреблению спиртных напитков.
Железняк читал американский роман, рассказывал Юрке все, что он знал о лавинах, и вел душеспасительные беседы с Наташей, убеждая ее, что жизнь ее вовсе не кончена и что все еще впереди. Почти те же тексты (десятку в руку певцу) выдавал по вечерам в ресторане осточертевший певец: «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». Иногда, устыдившись этого совпадения, Железняк обращался к текстам Священного Писания в надежде, что они еще не стали достоянием ресторанного бигбита. Наташа так никуда и не уехала. То ли дорога еще была закрыта, то ли она передумала…
На третий день небо расчистилось, солнце плеснуло с утра на дальний склон и час за часом стало завоевывать пространство Горы. В вестибюле загрохотали тяжелые ботинки, заклацали дорогостоящие пластины лыж.
И Железняк занял свое место в кресле в ожидании Юркиного выхода.
Со своего наблюдательного пункта он отметил, что инструкторы и отдельные служащие отеля пробегали сегодня по холлу с деловым и особо озабоченным видом. Потом Железняк заметил, что у стойки администратора стоит молодец, худощавый мужчина, рассеянно глядящий куда-то поверх голов. На лице его была презрительная гримаса, словно он был профессор, наблюдавший за школьным опытом, давно ему знакомым, не вызывавшим у него энтузиазма.
Рядом с Железняком, притаясь за спинкой его высокого кожаного кресла, сидел Ахат. Юный бармен смотрел в том же направлении, что и сам Железняк, и лицо у него при этом было злое, затравленное.
— Кто этот князь, друг мой? — спросил Железняк.
— Сам, что ли, не знаешь? Директор! — огрызнулся Ахат.
— Первый раз его вижу. Он что, редко бывает?
— Редко, да метко. Одна чудачка из Москвы так говорит…
— Любопытно.
— Вам, может, любопытно, а мне…
— А что тебе?
Ахат сказал со злобой:
— Сегодня говорит: ухожу в отпуск — шестьсот рублей мне принеси, не хватает на отпуск. С меня шестьсот и с ресторана шестьсот. Это разве справедливо? Я что, ресторан? У меня маленький бар, правда?
Железняк увидел Юрку. Он встал и сказал с тяжелым вздохом:
— В мире, друг мой Ахат, еще много несправедливости. Мужайся. Судный день близок.
Он поспешил к Юрке, который был явно не в духе, как, впрочем, почти всегда бывало по утрам.
Железняк заранее продумал сегодняшний маршрут. Они пойдут в долину реки, посетят нарзанный источник, съедят шашлык, а потом выйдут к интуристовскому отелю «Иткол», где должен непременно быть киоск Союзпечати. Слова «интуристовский» и «Союзпечать» одни и могли поддержать Юркин энтузиазм. Однако еще до этого дурацкого отеля и убогого киоска будет река, ее сверкающие берега, оправленные свежим снегом, будут сосны, пробужденные солнцем, и строгие, темные ели…
Они совершили настоящее путешествие через снега и долину, где одинокий собачий след рождал у Юрки целый вихрь нелепых гипотез:
— Она погналась за белочкой и затоптала ее следы… А может быть, она выследила вора. Может, она прячет своих щенков? А может, здесь где-нибудь сборный собачий пункт? Нет, скорей всего…
Все взрослое в Юрке было наносным и мерзким Юрка был нелепый человеческий щенок, истинное дитя.
Снег обтаивал над берегом. Капли падали с сосен на снег и на воду. Вырастали блестящие сталагмиты. Крошечные мошки и сонные тошие комарики кружили над снегом, готовые умереть сегодня же, под вечер, когда зайдет солнце. «А мы? А я?» — думал Железняк. Его день оказался длинным, однако и его день уже склонился к вечеру. Никому не дано знать заранее длину своего дня. А что, если бы мы это знали? Если бы вся наша жизнь была высвечена в сознании и каждый знал свой черный день в этом ряду? Лучше было бы или хуже? Ведь только это незнание и приносит нам утешение, дает силы продолжать…
— Откуда они взялись, эти мошки? — спросил Юрка. Железняк промычал что-то невразумительное, мучимый своим невежеством и своим неумением занять Юрку, увлечь его тайной жизнью снегов, и речки, и леса, и комаров, и Горы.
Они вышли на дорогу, мирно беседуя о славных делах красных кхмеров. Юрка задавал тон, он направлял течение беседы. Его неудержимо влекло к себе всякое насилие. Иногда он как будто выступал против насильников, но и в этих случаях его больше всего привлекало «справедливое возмездие» — кровавое насилие над насильником…
Они добрели до интуристовского отеля. Киоск Союзпечати был, на счастье, открыт, и Юрка скупил весь его нехитрый ассортимент — «Известия», «Неделю», брошюру о разоружении, пакетик кубинских марок, книжонку о парторганизациях Северного Кавказа, табель-календарь и аляповатую шариковую ручку из плексигласа. К отелю подкатил автобус, и они стали глазеть на туристов. Это были немцы из ГДР, вероятно, обитатели каких-нибудь маленьких городков Тюрингии или Саксонии. Железняк подумал, что, становясь организованными туристами, люди приобретают на время какие-то общие для туристов черты — шумную бестолковость, удручающую стадность, способность дружно смеяться над самыми тупыми и старыми шутками. Юрка, впрочем, отыскал и в этих туристах что-то интересное: как-никак они были люди особой породы — иностранцы.
На обратном пути Юрка скоро устал и стал ныть. Ходок он был никудышный. Железняк поймал попутку, и через три минуты они оказались у поворота, возле кафе. Теперь уже оставалось совсем недалеко.
— Интересная у него рукоятка была в «Жигулях», — сказал Юрка. — Заметил?
Железняк кивнул, хотя не заметил даже, что они ехали на «Жигулях».
У отеля толпились взбудораженные лыжники. Что-то случилось. Железняк крепче сжал Юркину руку, спросил:
— Что у вас?
— Парень один поломался. Москвич.
— Сильно?
— Насмерть. Уже увезли.
Они вошли в отель. Промелькнул инструктор Гена. Железняк потянул его за рукав.
— Из нашей группы разбился, — сказал Гена. — Румяный такой. Коля.
Железняк стремительно потащил Юрку к лифту, словно оберегая его от какого-то страшного зрелища.
— Вот она, твоя Гора, — сказал Юрка злобно.
— Жить вредно, — сказал Железняк. — От этого умирают.
Юрка подхватил радостно:
— Умер — шмумер, был бы здоров.
Железняк понял, что Юрке страшно. Что ему хочется уйти от мысли о смерти, которая ходит так близко. О том, что это может случиться с людьми, которых ты знаешь, и что их, этих людей, не спасает это ваше знакомство, твоя близость к ним. Что ты не обладаешь иммунитетом против смерти, никаким таким особенным табу.
Вбежав в лифт, они лицом к лицу столкнулись с Хусейном. Железняк не видел его уже несколько дней, и кровь бросилась ему в лицо при этой встрече. Но Хусейн ничего не заметил. Шлепнув Юрку по плечу огромной своей ладо-нью, он сказал:
— Вот так, дружище. Гора шутить не любит.
Вечером Железняк с Юркой зашли в Колин шестьсот седьмой номер. Ребята сидели молча. Семен упаковывал Колины вещи. Шапочку-«петушок». Очки «каррера», которые Коля купил здесь несколько дней назад и которыми он так гордился…
Все вдруг переглянулись с обидой — из-за этих очков: эти проклятые штуки, тряпки — вся эта белиберда может пережить человека… Виктор хотел сказать что-то, но промолчал.