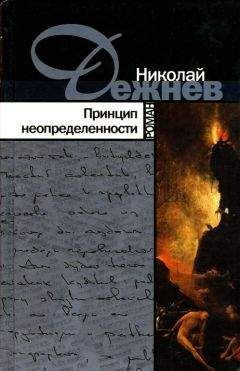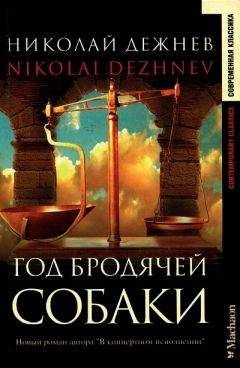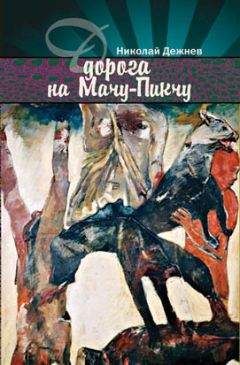Канатоходец. Записки городского сумасшедшего - Дежнев Николай Борисович
Умолк. В зале повисла тишина, потрескивали в камине дрова.
— И вот что я тебе скажу… — Однако, вместо того, чтобы продолжить, улыбнулся: — Сволочь ты, Колька! Жил я себе и жил, занимался делом, а ты заставил меня заглянуть за черту, за которой открывается нечто… — пожевал губами, — нечто требующее осмысления. Это как со смертью, пока о ней не думаешь, ее вроде бы и нет. Если тебя не парит, в каком мире живешь, он привычный и предсказуемый, но стоит задуматься и начать задавать себе вопросы… — Положил мне на плечо руку. — Знаешь, возможно, месье кое в чем и прав, роман что-то во мне изменил. Должно быть, нет на свете человека, кто интуитивно не чувствовал бы присутствия рядом чего-то огромного, чему все мы лишь малая часть, но совсем другое дело, если это абстрактное понимание становится частью повседневной картины твоего мира. И что удивительно, чувство это не имеет ничего общего с религиозностью…
Вот это да! Никогда бы не подумал, что услышу что-то подобное от Михаила. Нет, мир не перевернулся, собственное творчество я не переоценивал. По-видимому, в его жизни случилось нечто такое, что заставило посмотреть на нее по-другому. Серьезный человек, он, в отличие от меня, и к своему открытию отнесся серьезно. Скорее всего, сделал, как и я, шаг в пустоту и хватается за то, что под рукой, в поисках опоры. Она, эта пустота, зажата у каждого в кулаке, раскрыть который мы боимся и потому оттягиваем время. Самым везучим удается раньше умереть, мы с Мишкой к таким не относимся. Повлиять на него могло что-то глубоко личное, о чем в нашем узком кругу не принято говорить.
Но сказал я вовсе не то, что думал, и совсем не то, что чувствовал. Когда разговор, коснувшись тонких вещей, повисает в воздухе, самое время прибегнуть к шутке:
— Рад, что ты оценил философскую глубину моих произведений!
С юмором у Мишки все в полном порядке, но на этот раз что-то не сработало.
— Какую, к черту, глубину, ты писал роман мальчишкой! Тебе выпал шанс, было дано свыше, а в наказание или в награду — это еще вопрос, на который предстоит получить ответ…
— Уж больно ты нынче серьезен! — толкнул я его, как бывало, плечом. — Не причина ли исканий в раннем климаксе? Люди к старости становятся особенно набожными и морально устойчивыми…
Но договорить не успел. Как ни погрузнел Мишка, а в следующее мгновение уже держал мою голову под мышкой, не утратил приобретенных в юности навыков.
— Сдаешься, философ хренов?
— Сдаюсь! — прохрипел я, чувствуя, как паразит гнет меня к полу.
— Оторвать бы тебе, гаду, руки, — мечтательно заметил он, ослабляя хватку, — чтобы неповадно было лазить, куда не просят! Ладно, пошли париться, дрова прогорают…
— Ну, кто из нас больший гад, это еще вопрос, — выпрямился я, отдуваясь, красный как рак. Здоровый бугай, прижал шею не по-детски. — На пушку ведь взял, какой, к черту, мат через три хода, когда сам висел на волоске! Икнутся тебе твои выходки на том свете, я позабочусь…
Мишка обнял меня за плечи, и мы пошли к выходу в сад.
— А ты не спи на ходу, поглядывай на доску! Все пройдет, друг мой Колька, как написано на кольце царя Соломона, в этом великая надежда и великая печаль…
Баня с просторной бильярдной и мягкой мебелью в предбаннике стояла поодаль, к ней вела выложенная плиткой дорожка. На журнальном столике нас ждал кувшин с морсом и несколько бутылок минералки. Не спеша разделись и, подкинув дровишек, пошли в парную. Парились сосредоточенно, со знанием дела, а вернувшись в предбанник, развалились, блаженно отдуваясь, в креслах. Морс был клюквенным, с кислинкой, хорошо утолял жажду. Так бы и сидеть без мыслей в блаженной нирване, только Мишка хмурился, продолжал думать о чем-то своем. Спросил:
— Тебе знакомо выражение: сдвинуть светильник?
Вопрос не загнал меня в тупик, но услышать его от Михаила я не ожидал. Он продолжал меня удивлять.
— Оно из Библии, но точно не из Екклезиаста, я хорошо его знаю…
— Из Апокалипсиса!.. Ты деда моего не застал? Хороший был человек, светлая ему память, своей головой вышел из низов в люди. Читал мне на ночь не сказки, а из Святого Писания, слова в память и запали. Лежал, помнится, притворившись заснувшим, и размышлял: как это сдвинуть светильник, зачем?..
Мишка и тут остался самим собой. Все, чего бы ни касался, делал обстоятельно, доискивался смысла. За столько лет знакомства, казалось бы, я хорошо его узнал, но, по мере того как он говорил, старый друг открывался мне с доселе неизвестной стороны. Поверхностным Мишку я и раньше не считал, но сомневался, что ему хватает времени на что-то, кроме бизнеса. Не один пуд соли съели, думал я, уставившись через толстое стекло топки на языки пламени, а получается, что порознь, каждый сам по себе. К человеку, должно быть, в принципе нельзя близко подойти, существует черта, которую не переступить. Если удается за нее заглянуть, то только краем глаза в такие вот минуты откровения.
— В оригинале это звучит как-то так, — процитировал он, — имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Покайся, а иначе приду к тебе и сдвину светильник твой с места его! — Глотнув минералки, утер краем простыни со лба пот. — Я недавно только понял, в чем смысл этих слов. На первый взгляд в них вроде бы звучит угроза, а на самом деле светильник сдвигают для того, чтобы ты взглянул на себя в ином свете. Наверное, что-то подобное со мной и произошло…
Может, Мишаня, так оно и есть, только сказано это больше для меня. Про оставленную первую любовь! Удивительно, Откровения Иоанна Богослова читал, но к себе никогда не относил. Предательство любви, а как ни крути, это было предательством, безнаказанным остаться не может. Любовь единственная придает смысл существованию, без нее светильник освещает пустоту, в которой двигаются по кругу уставшие от себя тени. Со мной такое произошло двадцать лет назад, с тех пор и обретаюсь в безвременье. Покайся, говорит святой Иоанн, но ведь только этим в своих романах я и занимаюсь! В ногах готов валяться, землю жрать, но потерянное в припадке безумия не вернуть.
Михаил между тем что-то говорил:
— …и, знаешь, гипотеза твоя, зачем понадобился Господу человек, мне понравилась! Индивидуальное спасение звучит эгоистично, а стремление помочь Создателю сделать мир лучше соответствует духу христианской религии…
Сколько раз мы после этого заходили в парную, я не считал, только из бани выбрались, когда на дворе была уже глубокая ночь. На усыпанном звездами небе, не оставляя шансов дождю, висел серп луны. Славно было в природе, тихо. Стояли распаренные, вдыхая полной грудью насыщенный лесными запахами прохладный воздух. Поостыв, пошли в дом.
— Посмотрим, что нам приготовила домомучительница! — приговаривал Мишка, доставая из холодильника закуски. — Редкостная женщина, я иногда сам ее боюсь. Прислуга у нее ходит по струнке, но никогда не слышал, чтобы кто-то пожаловался на несправедливость…
Подогрели в микроволновке мясо и сели за стол. Праздник свободной мужской жизни продолжили вискарем. Со студенческих времен Михаил был душой любой компании, необычно было видеть его притихшим и молчаливым. Пили сосредоточенно, как если бы выполняли требующую высокой концентрации работу. Я уже порядком набрался, когда заметил, что Мишаня мой совсем заскучал.
Попробовал его расшевелить:
— Что, кризис среднего возраста догнал? Убегали от него, убегали, а он тут как тут с монтировкой за углом…
Он отреагировал вяло, состроил кислую физиономию.
— У меня есть знакомый художник, — предложил я, — давай закажем ей твой портрет! Изобразит тебя Наполеоном на коне, а может, и монахом с протянутой рукой. Клара баба тонкая, сама подскажет…
Сболтнул спьяну и только тут понял, что нет больше в моей жизни Клары и не факт, что была. И банкета в картинной галереи, и ночи в студии, ничего не было. Выдумал я все, чтобы отделаться от тусклой повседневности. В каком мире хочу, в таком и живу, единственное, чего не могу себе наколдовать, так это счастья, большого и обязательно в прозрачной упаковке, чтобы остальным было завидно.