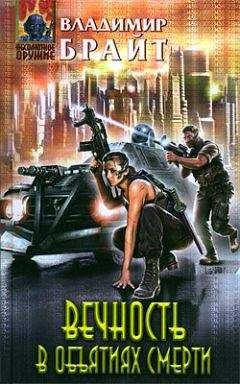Владимир Высоцкий - Черная свеча
— Он веселый. Пусти его, Ведьма. Епифан! Петя отбросил кони.
— Куды девать, ума не приложу, — почесал плешивый затылок Епифан.
— Под дверь. Там ему спокойней будет.
Ведьма наконец освободил дорогу Упорову, и он увидел хозяина банды. Рассветов сидел под забранным в мощную решетку окном, одетый в желтую атласную косоворотку. Он указал Упорову на место, куда тому надлежало лечь.
Опять с противным скрипом открылась дверь камеры.
— Не дрожите! — пророкотал Рассветов. — Казнить вас будут утром, по расписанию.
Втолкнули высокого зэка с русой кудрявой бородой. Он споткнулся о труп у порога, упал плашмя, беспомощно разбросав худые руки.
— Лягай рядом с Петром, земеля!
— Може, из него крест сделать, такой сухущий.
— Ша! — остановил остряков хозяин банды. — Это Монах. Подними гостя, Ведьма.
Упоров признал его не сразу: заключенный был худ и желт до такой степени, что его вполне можно было ставить вместо креста на кладбище. Лишь глаза по-прежнему голубели чистыми глубокими родниками.
Ведьма одной рукой поднял Монаха и, не опуская на пол, усадил рядом с Рассветовым.
— Постерся, попик, в мирских заботах, — Юрий Палыч оглядел его с сочувствием. — Все в добре совершенствуешься, а оно, вишь, чем платит…
Странный заключенный молчал и, похоже, слушал сам себя, не обращая внимания на грозного главаря банды. Рассветова его настроение не обидело. Было видно: его томила внутренняя неустроенность и он хотел ею с кем-то поделиться.
— Презираешь меня, Кирилл? — спросил со вздохом бандит, стараясь изобразить на закаменелом лице подобие доброты.
— Презирать мне не дано, — ответил Монах, и Упоров вспомнил этот бесстрастный баритон на плацу лагеря «Новый». — Человека, существа одухотворенного, разглядеть в вас, простите, не могу. Нет в вас человека, Юрий Палыч…
— Цыц, падаль небритая! — рявкнул Ведьма, пинком отбросив Монаха к стене.
Рассветов поднялся, оказавшись одного роста с Ведьмой. Вначале поглядел на него так, что тому стало не по себе, осторожно поднял руку и щелкнул Ведьму по носу. Снова застыл, обдумывая свои будущие действия.
Весь поникший, грустный, израненный внутренними распрями. Но наконец он решился и сказал:
— Чеши отседова, баклан!
И со всего маху пнул под зад оробевшего уголовника кованым сапогом. К разговору он вернулся после того, как Монах не торопясь поднялся с пола, отряхнул свои убогие одежды.
— Выходит — презираешь меня. И уйду я нынче без отпущения. Но ведь других-то, мне известно, кто худое творил, ты исповедовал. Христос во время распятия молился за палачей своих, да еще говорил: «Не ведают, что делают». Так — нет? Выше Христа себя ставишь…
Поднес к шершавому лицу Монаха прищуренный глаз. Ждет с затаенным интересом, так что и не угадаешь: шутит он или на самом деле желает каяться.
— Грех ваш зрячий, Юрий Палыч. Как и пшменный способ вашей жизни. Верните ее Дарителю воздаянием… «И бесы веруют. Веруют и трепещут».
Рассветов уважительно протянул:
— Да-а-а-а… Без высшего вразумления так не скажешь. Есть, получается, путь за гробом, а куда по нему поведут нас — неизвестно. Ну, да ладно, поживем — увидим.
Юрий Палыч повернул голову к нарам, позвал:
— Иди-ка сюда, сиделец. Глянь, Кирилл, на человека. Зачем, думаешь, они этого арестантика послали?
— Здравствуйте! — поклонился Вадиму Монах.
— Чтоб мы его пидором сделали…
— Он — достойный человек…
— Это ты мне говоришь, Кирилл? Им скажешь!
— Они меня не слушают.
Рассветов вздохнул:
— Ах, Господи, темный ухожу! Стоило творить этот мир, чтобы он стал таким?!
Утром бандитов выкликали по списку.
Переодетый в чистое белье Рассветов спросил, положив к ногам отца Кирилла холщовый мешок:
— Что передать Богу?
— Он все знает, Юрий Палыч!
— Тогда прощайте!
Рассветов повернулся, и Монах трепетной рукой перекрестил его мощную спину. Рука упала. Он стоял, утомленный внутренней борьбой и сопротивлением погруженный в свои раздвоенные чувства
— … Меня, возможно, тоже расстреляют, — неожиданно для себя проговорил Упоров, про которого до самого утра так и забыли бандиты Рассветова, отсчитывающие скоротечные часы до утренней казни. И, окончательно не желая льстить слабости, добавил: — Расстреляют, что гадать…
— Так грех велик? — отвлекся от трудных мыслей Монах.
Его сочувствие было не оскорбительно — спокойно. Он как-то сумел не заметить стоящей за признанием смерти; отнесся к ней как к чему-то естественному, безопасному, словно речь шла о смене суток, и после предполагаемой им ночи непременно наступит день. Так и положено.
Вадим тоже не укололся о его спокойствие, слова ответа получились рассудочно-трезвыми, посторонними к глубоким переживаниям:
— Нет доказательств безгрешности. Они есть, только слабее их желания убить меня…
Он рассуждал, выслушивая самого себя, не ощущая (и в том, действительно, было что-то, напоминающее исповедь) ничего острого в будущей своей судьбе, словно она ушагала уже от него, гремя коваными каблуками сапог бандитов Рассветова. И та ярость, что стояла впереди произносимых им слов, оказалась вовсе не нужна.
Он ее стыдился, как стыдился слабости, выходя на поединок. Пока разбирался в чувствах, рядом чуть распевно зазвучал баритон Монаха:
Прощайте пламенней врагов,
Вам причинивших горечь муки.
Дружней протягивайте руки.
Прощайте пламенней врагов!
Страдайте стойче и святей,
Познав величие страданья,
Своим потомкам в назиданье,
Страдайте стойче и святей!
Отец Кирилл держал в ладонях, как неоперившегося птенца, кусок хлеба, оставленный Рассветовым, вдыхая почти умерший запах ржи. Глаза его были полузакрыты, он походил на человека, который видит путь уходящих слов и верит в их возвращение, еще — в целительное свойство звуков, наполненных святым озарением грешного сочинителя, не самовластным над тем, что учредил ему Даритель талантов.
Несколько минут они сидели в благоустроенной тишине, ею наслаждаясь.
— Гиппиус? — осторожно произнес запретное имя бывший штурман.
— Нет, — улыбнулся внутренней улыбкой Монах. — Игорь Северянин. Гиппиус люблю такую:
Хочу дойти, хочу узнать,
Чтоб там, обняв Его колени,
И умирать, и воскресать
Он вдруг как-то естественно забыл про стихи, обращаясь к Вадиму, неким особенным образом перевел настроение разговора в просительную форму, через которую передал свое отношение к его заботе:
— Покайтесь искренне. Путь откроется…
— Перед кем?! — спросила очнувшаяся в нем ярость и повторила, заслонив своей горбатой спиной сжавшееся раскаянье. Ярость была сильнее и знала — ей есть что скрывать: — Перед кем?! Слыхали, что сказал Рассветов?! Зачем нас сюда кинули?! Палачи!