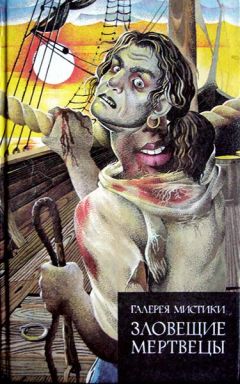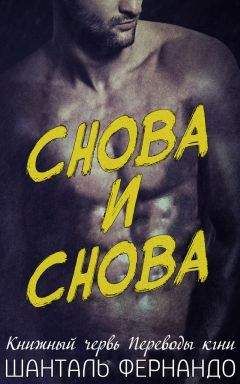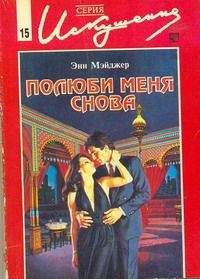Андрей Коровин - Ветер в оранжерее
Парень в шапке ухватился за ручки моей сумки.
— Хватит с тебя, ублюдок, — сказал Кобрин.
Я рванул на себя сумку, парень выскочил вслед за ней. На нём была короткая кожаная курточка, спортивные штаны, гладко отблёскивающие в свете, идущем из автомобильного салона, и кроссовки, — довольно ладная, хотя и некрупная фигурка. Он не выпускал ручек сумки. С другой стороны вывалился водитель, здоровенный мужик, ростом с Кобрина и раза в два шире его, с большим пузом.
“Хватит, так хватит”, — быстро подумал я и хотел было оттолкнуть парня, как вдруг тёмно-светящаяся вспышка закрыла на секунду мне глаза — удар был очень точен и быстр, я не упал только потому, что держался за сумку…
Через несколько мгновений всё, как говорится, смешалось, я крепко держал парня за волосы (шапки уже не было на нём) и, оттянув его голову назад и вниз, бил кулаком в его заливаемое кровью лицо. Затем я бросил его, как мешок, Кобрин валялся на земле с мужиком и, кажется, хотел задушить его.
— Брось его! Брось! Игорь! — я с трудом оторвал Кобрина от мужика. — Бежим!
Я подхватил сумку с водкой, Кобрин, поднявшись, изо всех сил пнул привстающего мужика, затем закричал “Аллах акбар!”, ударил кулаком по капоту “шестёрки” и выбил ногой боковое стекло.
9
— Игорь, скажи, почему прыгать вниз легче, чем вверх? — сказал я, трогая языком разбитую губу.
Мы стояли с тыльной стороны здания общаги и глядели на форточку, из которой недавно вылезали. Она казалась труднодосягаемой. Снизу вверх, вдоль вертикальной линии залифтовых окон, поднималась пожарная лестница, однако обрезана она была довольно высоко — нижний конец находился на уровне приблизительно подоконника второго этажа, и до него ещё нужно было добраться. Этажи были сталинские, высокие, и стена не имела почти никаких вспомогательных выступов. На высоте груди проходил параллельно земле округлый цементный валик, значительно выше его торчали из стены какие-то штыри, возможно, остатки от пожарной лестницы, бывшей когда-то длины более снисходительной к человеческим слабостям. Обычно внизу валялась какая-нибудь труба или доски — что-нибудь, по чему можно было вскарабкаться и дотянуться до нижней перекладины ржавой лестницы. Теперь не было ничего. Вылезая, мы не обратили на это никакого внимания.
Но настроение у меня было приподнятое, я выругался, подстрекаемый решимостью взбираться по стене хоть до седьмого этажа, и стал запихивать бутылки за пояс и в карманы, так как лезть с сумкой в руках было бы совсем уже неудобно. Запихнув четыре штуки и две оставив Кобрину, я взлез, как отяжелевший от дихлофоса таракан, на цементный валик и, в конце концов, медленно и осторожно выпрямляясь вдоль стены, выпрямился во весь рост. Подняв руки вверх и привстав на цыпочки, я убедился, что достаю до торчащих из стены штырей — от них до нижней перекладины оставалось ещё около метра. Я уцепился за штыри, подтянулся, отжался на них, как на брусьях, и уперевшись коленом, перехватил руками, оказавшись наконец-то на лестнице.
Всё это время Кобрин снизу помогал мне словами:
— Давай! Давай, чувак! Держись! Это круто!
Я втиснулся в форточку. У Кобрина преодолеть расстояние от штырей до лестницы не получилось, и мы со Злобиным вытащили его наверх при помощи верёвок.
10
В комнате пятьсот тринадцать, абсолютно голой, с исписанными шариковыми ручками и фломастерами стенами, “чуваки” приготовились к нашему приходу: на матрасе левой от стола кровати лежал магнитофон “Электроника”, на разболтанные кнопки которого нажимал похожий на индейца Гладков. В магнитофоне стояла кассета Высоцкого, и Гладков, щёлкая, перематывал её, разыскивая какую-то песню. На столе, рядом с теми четырьмя холодными бутылками водки, которые я принёс минут за пять до этого, стоял один гранёный стакан, лежало полбуханки чёрного хлеба и — на тетрадном листе в линейку — мелко порезанный кусок сала размером с пачку сигарет.
Когда вошёл я, пока ещё один, без Кобрина, с кровью на губе и подбородке, в измазанной об общежитскую стену куртке, Гладков участливо вскочил навстречу, Азамат, трогательно подражая гусарским повадкам, сказал своё “тридцать три раза массаракш”, Злобин слегка нахмурился. К счастью, крови на его светло-коричневой куртке почти не было — всего два-три небольших бурых пятнышка на воротнике и груди. Заметив разбитую правую руку, Злобин улыбнулся.
— Добытчики, — сказал он.
Когда же появился Кобрин, выглядевший не намного чище меня, но вдобавок ещё и с дыркой на ссаженном об асфальт колене и с рукавом куртки, частично оторванном в плече, произошло как бы некоторое волнение. Гладков побледнел почти до синевы, обеими руками стал зачёсывать назад длинные блестящие волосы и встряхивать головой.
— Индеец, — ухмыляясь волчьей ухмылкой, сказал ему Кобрин, — не переживай. Твоя курточка побывала в учениях. Ориентир двадцать, осколочным, по пехоте противника!..
— Я не переживаю, — сказал, волнуясь, Гладков.
— Включай музыку и наливай, — сказал Кобрин.
— Тише, тише, Игорь, не кричи так, меня Марина найдёт, — сказал Злобин, подвигаясь к столу и пальцами снимая с бутылки бескозырку из алюминиевой фольги.
Придвинув стулья, мы с Кобриным сели. Злобин твёрдой рукой налил сто грамм и протянул стакан мне.
— По кругу, — сказал он, глядя мне в лицо спокойными голубыми глазами.
Пили из одного стакана. Вначале я, затем Кобрин, Азамат, Гладков и последним — Злобин, который, выпив, тут же открыл следующую бутылку.
— Теперь по полтиннику, — сказал он.
У Злобина, как мне показалось, был в этот день как бы приступ справедливости, что, между прочим, часто случалось с ним. Он отмеривал водку очень тщательно и следил за соблюдением очерёдности.
Первый глоток немного обжёг мне разбитую губу, стало теплее, мурашки побежали по телу, электрический свет сделался словно бы чуть-чуть ярче. Мы все отражались в голом чёрном окне. Пел Высоцкий.
— Дима, я потом отстираю пятна, — сказал я Злобину, снимая куртку.
Ожидавшая нас троица, тоже, оказывается, была не слишком трезвой. Когда Высоцкий запел “Идёт охота на волков, идёт охота…”, Гладков, положив руки на худые колени и наклонившись вперёд, стал подпевать “Идёт ох-хх-хота!..”, так мучительно двигая при этом шеей, как будто его вот-вот должно было вырвать.
Азамат же, сидевший рядом с Гладковым на кровати, немедленно после второй порции в пятьдесят грамм закрыл глаза и упал на спину, неловко подвернув голову, упёршуюся в стену. Отрубился.
Не знаю, можно ли выразиться точнее, известно ли кому-нибудь, в какое состояние погружается глубоко пьяный человек, что это — обморок, сон или внезапная и полная потеря физических и душевных сил, похожая на кратковременную смерть?
Короче, он отрубился.
С этого момента я помню всё уже не очень хорошо. Мы слушали Высоцкого, спорили о нём, что-то неожиданное говорил Злобин, и мне казалось, что говорит не он, а какой-то другой человек, все слова были как бы не его, не злобинские; Кобрин, помню, сказал про Азамата, что он “поймал торчок”, и следом, что “произошло его слияние с природой, как говорил старина Гофман”.
— А вы знаете… Наверное, знаете, — сказал нерешительный Гладков. — Гофман допивался до того, что по ночам ему было страшно писать про крошек цахесов и он в одной руке сжимал руку спящей рядом жены, а в другой держал ручку или перо, что там было у них…
Чётче всего врезалось мне в память то, как Гладков, по команде Злобина, каждый раз, когда очередь пить доходила до слившегося с природой Азамата, с натугой отрывал его от матраса, приподнимал ему голову, раздвигал губы и вливал в его обросший бородой и усами рот причитающуюся ему порцию водки. Принцип справедливости соблюдался неукоснительно.
Мы спорили, выходили в туалет, где стены и пол качались и уплывали, и мелькали мимо какие-то рожи; рожи мелькают, говорил я Кобрину, а Азамат всё лежал, сползши уже значительно ниже и почти сваливаясь с кровати, и каждый раз, когда наступала его очередь пить из стакана, Злобин говорил:
— Поднимай!
И Гладков просовывал Азамату руку под мышку, приподымал его, затем, изворачиваясь, перехватывал его под голову и лил ему в зубы водку, которая стекала по чёрной бороде и сине-белой спортивной куртке Азамата — невероятно грязной и вонючей.
11
Я стал открывать глаза.
Вернее, так: я очнулся, проснулся, пришёл в себя, вздрогнул от внутреннего толчка, отделился от нирваны, — что-то произошло со мной, и я стал сознавать себя и затем уже, несколько позже, стал открывать глаза.
С того непостижимого мгновения, когда небытие, в которое я был погружён, словно бы накололось на тончайшую световую иглу, и до того момента, когда я всё-таки открыл глаза, прошло некоторое время, вернее, прошло что-то. Что это было? Время?