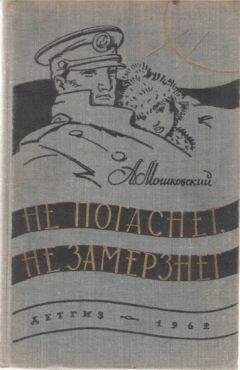Гроздана Олуич - Голоса на ветру
– В таком случае, все мы ноль! – Данило Арацки отшатнулся, увидев вытаращенные глаза парня и его бескровные губы, которые шептали, что мистер доктор не прав.
– У остальных нулей есть счет в банке! – Дик Доджес вдруг замолчал, словно ему нечего было больше сказать. Нули, имеющие счет в банке, не нули!
Данило Арацки чувствовал, что его ладони стали влажными и холодными от страха, который охватил его всего, целиком, но не мог понять природу этого страха и преодолеть его. Распростертый на кровати парень – больной, это видно и по его глазам, и по цвету лица, и по беспокойству, сводящему судорогой его руки и губы, однако не может быть, чтобы отсутствие денег стало причиной такого приступа. А, может быть, эта темная тень – предостережение, что он не сможет понять законы того мира, в котором теперь обитает. Что у нас и безумие разное.
Если бы не Дик Доджес, а кто-то из «соотечественников» расстегнул штаны посреди Кнез Михайловой, уж он-то про себя не сказал бы, что он ноль, не позволил бы так спокойно отвезти себя в дурдом. Ноль это весь мир! Неужели эти идиоты, которые называют себя докторами, считают, что его на помойке нашли и с ним можно делать что угодно? Пусть господа врачи подставляют свои задницы под шприцы, он на такое не согласен!
Доктор Данило Арацки невольно улыбнулся. Мелкого хулигана с белградской улицы он бы смог вытащить из его космического бунта. Американского парня ему не понять. Длинный, белый, чистый, Дик Доджес неподвижно лежал на кровати как большая белая рыба, попавшая в шторм, который разбил ее о берег. Данило вытер пот со лба парня, потом вымыл руки. Большая, белая, разбитая рыба лежала перед ним. Данило не понимал этот разбивший ее шторм, он был не в состоянии помочь. На мгновение ему показалось, что вместо Дика Доджеса лежит он сам, одуревший от наркотиков. По его телу пробежала дрожь. Когда он попросит перевести его на работу в лабораторию, доктор Уокер скажет, что это у него просто небольшой кризис. Кризисы приходят и уходят. В лаборатории не такой уж большой выбор, можно резать крыс, а можно лягушек. Крысы по ночам не спят. Он, без сомнения, выберет лягушек. В конце концов, лягушки это тоже милые Божьи твари, а безумие у нас не одно и то же.
Вытаращив от изумления глаза, Алексей Семенович безуспешно пытался разгадать, что Данило подразумевает под «милыми Божьими тварями». И только после разговора с Ароном ему стало немного яснее, что мучает Данилу.
– Если Данило не забудет Доджеса, он начнет искать другую работу! – сказал Арон. – А вдруг он снова решит бежать? Все мы, в сущности, только и делаем, что убегаем… – лицо Алексея так побледнело, что Арон остановился на полуслове.
За окном сгущалась темнота.
В Белграде, вероятно, начинается новый день, а в Мурманске…
– Что сейчас в Мурманске? – повернулся он к Алексею Семеновичу. – День или ночь? Что светится за окном в Мурманске? – пытаясь продолжить свою мысль, Арон посмотрел на Алексея Семеновича…
– Снег… – сказал он с отсутствующим видом. – Вероятно, снег! А почему Данило начнет искать другую работу?
– Не знаю! Но так оно и будет, я больше чем уверен…
* * *– Только это не новая работа, а новые мучения! – из темноты, испещренной световыми лучами с соседних небоскребов, на семнадцатом этаже нью-йоркского отеля Данило услышал голос Луки Арацкого и вздрогнул! Откуда он знает? Он даже Арону не сказал, что на несколько дней поедет в Хикори Хилл на семинар о болезни Альцгеймера в раннем возрасте. Арон услышал об этом от кого-то из администрации больницы, а, может быть, от Алексея Семеновича, хотя тот не помнит, что хоть что-то говорил ему о предстоящей поездке Данилы на Средний запад.
– Ружа Рашула? Да? – Арон усмехнулся и потянул Данилу в столовую для персонала клиники. Там было почти пусто, время обеда еще не пришло.
Арон внимательно всмотрелся в глаза Данилы и присвистнул: – Да что с тобой творится? Не ты ли еще в Ясенаке утверждал, что некоторые вещи лучше забыть, чем помнить? Во всех странах, во все времена были больные, от которых действительность ускользает, оставляя в их сознании то одно, то другое зернышко из бывшего в памяти, а…
– А… что? Забвение не стирает все? Оставляет пустоту с крошками воспоминаний о чьем-то веснушчатом носике, о лягушачьих концертах в Ясенаке, о тенях, которые скользят вниз за окном «Атертона». Хватит, Арон! Неужели ты еще не понял, что мы с тобой не те люди и не в том месте? Кто может сказать, что происходит в нашей Юге?! А мы теперь здесь, мы просто-напросто трусливо сбежали, как только там заварилась каша… Ну, вот, поэтому мы здесь…
– Ошибаешься, друг! Мы сбежали до того, как в Югославии началось безумие, да оно там, собственно, никогда и не кончалось. Не один Гарача плакал во сне. Плакал и Марко Вукота, у него вся семья погибла, брошенная в бездонную яму под Гацко, он чудом остался жив, и уж он-то убежден, что ничего не кончено. Яма с костями родителей, сестер и братьев взывает, а кругом снова точат ножи. Его напрасно призывают успокоиться. Дескать, война была, да, но война в прошлом. Больше войны не будет. Марко Вукота никому не верит. «Рану не видно, – говорит он, – но боль все сильнее!» И все только повторяется. «Достаточно осенью, когда оголились деревья, склониться над одной из таких ям, и в завываниях ветра услышишь стоны убитых еще тогда, давно. Ямы ждут, ждут».
– Не выдумывай глупостей, Марко! Какие голоса, какие стоны? – пытались успокоить его воспитатели. Безуспешно. Он успокаивался только на коленях у поварихи или когда сидел у костра с другими детдомовцами, которые пели «На земле рай нас ждет…»
– Какой рай, Арон? Где? «Возвращаю Богу входной билет в рай, – сказал один из братьев Карамазовых, – если за него заплачено хотя бы одной детской слезинкой». А рай, который был обещан нам, оплачен морем слез. Зачем нам врали, что войн больше не будет? Все устроится, говорили нам. И что устроилось? Уже завтра Дамьяна могут втянуть в какую-то новую войну, а пройдет еще сколько-то лет, такое может случиться и с Дени… Гарача молчит не случайно. Не хочешь спросить у него, что происходит?
– Я бы и спросил, если бы знал, где он! Не паникуй! Все-таки кое-что устроилось, Данило!
– Ты так думаешь? А я, понимаешь ли, другого мнения, Арон! Ничего не устроилось, по-прежнему рану не видно, а боль становится все сильнее, незаметно, коварно подталкивая нас в направлении небытия, тьмы. Потому что когда нас покинут слова, а с ними и названные ими фрагменты действительности, то где мы окажемся? Да и будем ли мы тогда существовать?
– Пустота, Данило, меньше болит! Я имею в виду не только «счастливых сумасшедших», которые бродят по улицам, не зная, кто они и что они…
– Кого ты тогда имеешь в виду, а? Можно ли представить себе больший ужас, чем жизнь, в которой не знаешь, жив ты или нет?
– Речь тем не менее о Руже Рашуле! Возьми себя в руки! Ее нет…
– Возможно. Но число таких, как она, растет. Только на этой неделе поступило семь таких же новых пациентов, семь таких же диагнозов. Боже мой, «диагноз»! Как это жестоко звучит, но как назвать тех, кто не помнит даже своего имени, а невидимые волны пытаются стереть все и как песчинку увлечь их в пустоту.
В глазах Данилы Арон впервые заметил тень страха, чего раньше никогда не было. А, может, и хорошо, что он на некоторое время уедет, уедет на этот семинар в Хикори Хилл, сменит обстановку, побольше узнает о болезни, которая его так интересует, подумал Арон, догадываясь, что трещина в душе его товарища делается все шире. Нет, не товарища! Брата…
* * *Семинар в Хикори Хилле, от которого Данило так много ждал, проходил без каких-то серьезных открытий для него, а, может, ему просто так казалось. Автор «Карановской летописи» не упомянул о нем ни словом, и в «Дневнике» самого Данилы о нем тоже ничего нет. Может быть, потому, что он ждал, а не случится ли какого-то перелома в занесенной снегом Айове? Может, он и случился, только ни Арон, ни Алексей Семенович не могли разгадать, что.
А время летело и приносило много новых событий и в Старый свет, и в Нью-Йорк. От ожесточенности междоусобных столкновений на родине даже у смиренного Арона перехватывало дыхание. Но он по-прежнему не терял надежды, что это безумие выдохнется и в один прекрасный день он сможет увезти Дени в Белград. Такой ужас не может длиться долго.
Тем не менее он длился и длился! И становился все более мучительным.
Алексей Семенович и Арон ждали, когда Данило появится или хотя бы даст о себе знать. Дени иногда видел его во сне. Мальчик все больше и больше привязывался к Алексею Семеновичу, заменяя ему внучку со светлыми косичками и беличьими зубками.
«Дени по-русски говорит лучше, чем по-сербски или по-английски! – писал Арон Даниле Арацкому. – Ты еще долго собираешься сидеть в Хикори Хилле? Американский Средний запад не самое волнующее место в мире…»