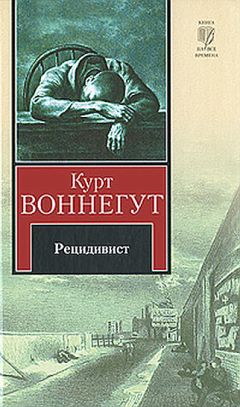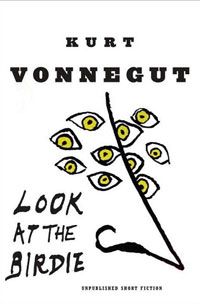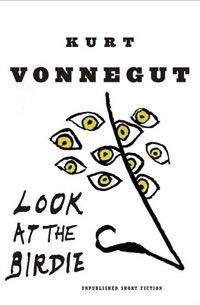Рышард Клысь - «Какаду»
«Они едут так, будто в кабине не нашлось места».
— Да, — серьезно сказал майор. — Кончим эту игру. Вы свободны. Можете идти домой.
Я отвел взгляд от грузовика и, пораженный, уставился на майора.
— Пришлось вас ударить, — спокойно объяснил он. — К сожалению, не было другого выхода. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Впрочем, я действовал только в ваших интересах. Согласитесь, что ситуация была довольно сложная. Мне удалось, однако, убедить сотрудника гестапо, что вы — вор, а чемодан, который доставил вам столько хлопот, принадлежит мне. Конечно, он мне сразу же поверил. Тем более что я не жалел оплеух…
Я только молча кивнул головой, еще не совсем доверяя ему.
— Проклятие! — выругался я. — И долго вы будете таким образом забавляться?
— Можете идти домой, — тихо произнес майор. — Я же сказал, что помогу вам.
— Да, но это было в поезде.
— Вы свободны.
Я наклонился и поднял свой чемодан.
— Вы спасли мне жизнь.
Майор молчал.
— И все же вам не следовало так говорить со мной, когда мы вышли из вокзала.
— Я говорил это не всерьез.
— Вы играли с огнем.
— У меня вовсе не было намерения затягивать эту игру.
— К счастью…
Грузовик неожиданно затормозил, не далее чем метрах в десяти от нас, я оглянулся и заметил бегущих в нашу сторону людей, я сразу узнал их: это были Рысь и Серый.
— Ребята, не стреляйте! — закричал я сдавленным голосом. — Не стреляйте, ради бога!..
Но было уже поздно, раздались два коротких, сухих, как удары бича, выстрела, и майор бесшумно осел на тротуар. Его пистолет глухо стукнул о мостовую, а слетевшая с головы фуражка покатилась по обледенелому тротуару и застряла в сугробе.
— Скорее, Хмурый! — крикнул мне Серый. — Давай чемодан!
Я стоял неподвижно и, тупо уставившись на майора, пытался разглядеть на его лице хоть какие-нибудь признаки жизни.
— Хмурый! — заорал Рысь. — Поторопись!
Я поднял парабеллум майора и только потом взял чемодан; с помощью Серого мы втащили его в машину, забрались сами под брезент, и грузовик резко рванул с места.
— Чисто сработано, а? — заговорил дрожащим от волнения голосом Рысь.
— Да.
— Не надеялся небось, что мы тебя встретим.
— Нет, — ответил я. — Нет.
— Что с тобой, парень? — спросил Серый. — Никак не опомнишься?
— Да. Не выходит из головы.
— Мы прибыли в самый раз, верно?
— Да.
— Ты уж, наверно, крест на себе поставил?
— Ты угадал, друг.
— На этот раз дело и вправду выглядело скверно.
— Скажи, Хмурый, как это ты выбрался с перрона?
— Оставь меня в покое, Рысь.
— Что это с тобой, приятель? — снова спросил Серый. — Ты выглядишь так, будто только что похоронил брата.
— Я думал, на этот раз уже не выкарабкаюсь.
— Но мы здорово разделали этого фрица.
— Да.
— Куда он тебя вел?
— В гостиницу.
— Зачем?
— Я должен был отнести его чемодан.
— Это он так разрисовал тебе физиономию? Вся в крови.
— Да.
— На перроне была заварушка?
— Мне немного от него влетело. У майора был тяжелый чемодан, а я не хотел нести его в гостиницу.
— Смешная история, ей-богу. Молодчик сам напросился.
— Это меня спасло. Иначе бы я не выбрался с перрона. Вы же видели, что там творилось.
— Повезло тебе, брат.
Рысь прыснул со смеху.
— Хорошо, что мы тебя поджидали.
— Конечно.
— У меня дьявольский нюх, — буркнул Серый. — Я как чуял, что сегодня может что-то произойти. Весь день был сам не свой. Места себе не находил…
— В конце концов я как-нибудь выбрался бы.
— Сейчас ты в полной безопасности.
— Да.
— Но как будто и не рад. Что случилось?
— Ах, ничего, — медленно и рассеянно бросил я. — Все еще думаю об этой истории. Здорово вы это провернули…
VI
Сочельник: Сочельник
Меня ждали к ужину. Обычно я проводил сочельник в доме пани Марты, но уже второй раз за последние годы мы садились в этот вечер за стол с большим опозданием. Когда я добрался до места, было около двадцати двух часов, приближался комендантский час, а этажом выше, над квартирой пани Марты, где жила семья фольксдойча, уже несколько часов шла дикая попойка, и от грохота сапог разгулявшихся солдафонов сыпалась штукатурка. Вот уже четвертый сочельник подряд буйствовали напивавшиеся до бесчувствия эсэсовцы, но на нас это не производило никакого впечатления, их соседство перестало нас беспокоить, мы привыкли к нему, как, скажем, к присутствию крыс, которые в летнюю пору выбирались из подвалов и свалок во двор старого дома, заполняя его пронзительным писком и отвратительным шорохом своих тел. Сейчас была зима, нашествие крыс прекратилось, но в квартире фольксдойча по-прежнему продолжались попойки, на которые мы уже перестали обращать внимание.
Когда я вошел в столовую, посредине закрытого белой скатертью стола, между тарелками и столовыми приборами, дымилась миска грибной лапши, девочки, встав со своих мест, молча ждали, когда мать подойдет к ним с облаткой, чтобы принять от них поздравления и высказать свои, а я остановился у ведущей на кухню двери, глядя на высокую, до потолка, ель, украшенную разноцветными ярмарочными блестками. Пани Марта делилась облаткой со старшей дочерью Люцией, я слышал их взволнованные голоса, и волнение это постепенно передавалось и мне, хотя я даже не смотрел в их сторону; в эту минуту мне хотелось только, чтобы все как можно скорее кончилось, я всегда больше всего опасался именно этой, столь тягостной для меня, минуты, поднимавшей в моей душе пласты воспоминаний о счастливых и беззаботных детских годах, о семье, которой у меня уже не было, о доме, который я утратил, ведь моя комнатка на мансарде, в другом конце города, была всего лишь тесной мастерской, едва вмещавшей мои мольберты, полотна и книги; но, хотя она была также и моим убежищем и тайником для оружия и боеприпасов, в этот вечер я думал о ней с неприязнью и был рад, что сегодня уже не нужно туда возвращаться. Теперь пани Марта делилась облаткой со средней дочерью Францишкой, я слышал их голоса с нотками еле сдерживаемого плача, но не смотрел на них, мой взгляд блуждал по тяжелой, уцелевшей еще со времен первой мировой войны дубовой мебели, по увешанным узорчатыми коврами стенам; прямо напротив двери, возле которой я стоял, рядом с длинным буфетом висели на стене две картины Яксы — выдержанный в розовых тонах морской пейзаж и портрет цыганки, два претенциозных полотна, написанные без малейшего чувства цвета и вызывавшие раздражение, если на них смотреть долго; я перевел взгляд на заставленный стол и только теперь заметил на нем лишний прибор. Пани Марта поздравляла младшую дочь Юлию, через минуту настанет моя очередь; уже при одной этой мысли мне сделалось нехорошо, меня охватила какая-то неловкость, словно надо было публично исповедоваться; я не был уверен, что в последний момент не поддамся тому волнению, с которым так упорно боролся, чувствовал себя мерзостно и боялся, что не сумею сдержать себя. Но когда эта минута наступила и пани Марта подошла ко мне с облаткой, я низко наклонил голову и, не глядя ей в лицо, быстро пробормотал несколько слов, вполне сознавая, что звучат они сухо и неискренне, хотя я был по-настоящему привязан к этой женщине, которая по доброте своей пыталась заменить мне мать и дом которой, где я проводил большую часть своего свободного времени, был открыт для меня в любое время дня и ночи. Пани Марта, однако, восприняла все как должное и ограничилась коротким пожеланием, не касаясь того, что могло причинить мне боль, за что я был безмерно ей благодарен, и, только когда я поцеловал ее натруженные руки, сердечно сказала:
— Очень рада, Алик, что ты сегодня с нами.
— Я тоже.
— Думала, что ты уже не придешь.
— Пришлось вовсю торопиться, чтобы успеть до комендантского часа.
Подойдя к девочкам, я молча поцеловал их, уклонившись тем самым от обязательных пожеланий, и мы сели за стол.
— Вы еще кого-нибудь ждете? — спросил я, глядя на лишний прибор и пустой стул.
— Нет, — ответила пани Марта и, уловив мой взгляд, добавила: — Ах вот почему ты спросил! Это место для всех тех, кто одинок и кто в этот вечер уже не может быть с нами.
— Понимаю.
— Это место для тех, кто умер, — сказала Юлия. — Ты не знал об этом, Алик?
Я взглянул на сидящую напротив девочку и отрицательно покачал головой, меня снова охватила щемящая тоска, промелькнула мысль о майоре, я вспомнил его лицо, наш странный разговор и это путешествие в купе скорого поезда, а потом его неожиданную смерть, тяжесть которой по-настоящему стал ощущать только теперь. Поначалу меня так оглушило молниеносное развитие событий, что не было времени спокойно поразмыслить обо всем случившемся в этот день, в этот необыкновенный вечер; я счастливо избежал смерти, а быть может, даже чего-то пострашнее, чем смерть, — если бы попал в руки гестапо, там наверняка попытались бы вырвать у меня тайну груза, который я вез, — я был свободен, но не испытывал радости: в том, что мне еще раз удалось выскользнуть из расставленных на меня силков, была не только моя заслуга; я глядел на пустое место за столом и про себя ругался самыми похабными словами, какие только приходили в голову, лишь бы не поддаться волнению, не думать о минувших событиях, не вспоминать это лицо, слова этого человека, его грустную улыбку. Передо мною стояла тарелка с праздничным супом, грибной лапшой, попробовать которую у меня не хватало духу — казалось, я тут же расплачусь.