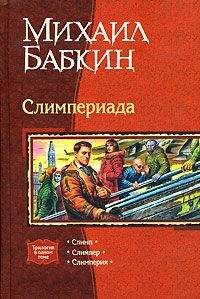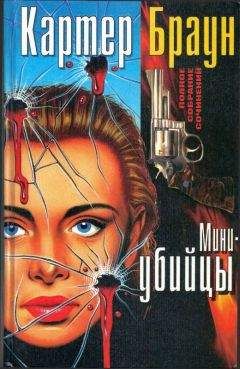Максим Чертанов - Правда
— Архихуйня!
Дзержинский, кажется, «Правды» вообще не читал. Он вполне удовлетворялся скромными поступлениями со Знаменской и только удивлялся иногда, какие сказочные идиоты сидят теперь в цензурном ведомстве. Один раз, для пробы, он и сам поместил в «Правде» статью за подписью «Ferrum»: из первых букв каждого абзаца складывался диагноз «Николашка кретин». Цензор ничего не заметил, только в одном месте поправил «реальность» на «действительность» да вычеркнул слишком частое повторение слова «неистребимый». Дзержинский пошел дальше и тиснул в пролетарской газете следующий акростих:
Еще и солнце не взошло.
Белеет снег по косогорам,
А уж приятно и тепло.
Люблю, когда все птички хором
Январским утром запоют!
Вокруг лежит простор холодный,
А дома чисто и уют.
Сторонник чтения свободный,
Возьму какой-нибудь журнал,
Смотрю в страницы, как обычно...
Еще, еще! Но прочитал —
Хочу уж спать, и сплю отлично.
Ему даже пришло письмо от сознательной работницы, уверявшей, что она разгадала тайный замысел автора, намекающего на необходимость свободного чтения, а то цензура совершенно уже задушила все живое. Дзержинский никогда не смеялся и потому только улыбнулся, читая письмо проницательной труженицы. «Правда» вообще была веселая газета. Жаль, что настоящую ее подшивку теперь можно увидеть только в запасниках музея Ленина на улице Мари-Роз, а то, что нам предлагают в российских библиотеках, не имеет к настоящей «Правде» никакого отношения. Вся эта «Правда» напечатана, по понятным соображениям, в двадцатые годы в типографии «Известий», а настоящую «Правду», как всегда, скрывают от народа. Ему хотят внушить, что «Правда» — это скучно. Неправда. «Правда» — это смешно.
ГЛАВА 6
Вопреки укоренившемуся заблуждению, Владимир Ильич никогда не читал Льва Толстого, поскольку находил его книги чересчур толстыми; глыбой и человечищем он как-то назвал его по недоразумению, спутав с другим Толстым — «американцем», одним из первых русских преферансистов. Он не знал фразы о семьях, которые несчастливы по-своему, и у него не было доброго камердинера, который утешал бы его тем, что все образуется. И тем не менее...
Все смешалось в доме Лениных. Жена узнала, что муж был в связи с француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день. Кушанье было не готово, шифровки не отправлялись, статьи в газету не сочинялись, за покер приходилось садиться без партнера, по всей квартире валялись демонстративно нечиненые рубахи и носки.
Владимир Ильич был человек правдивый по отношению к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя в том, что он раскаивается в своем поступке. Может быть, и даже наверняка, он сумел бы скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Но он никак этого ожидать не мог, поскольку жена его даже не была, строго говоря, женой, а всего лишь деловым партнером и товарищем. «И как хорошо все было до этого, и как мы хорошо жили!»
— Надюша, рыбка, перестань сейчас же дуться и поговори со мной.
Надежда Константиновна подняла голову от книги. Она читала «Пол и характер» Вейнингера в подлиннике. Глаза ее ослабли от постоянного чтения и шифровок, и она теперь носила очки; в них она совершенно могла сойти за интеллигентную даму. «И эту женщину — темную, неграмотную, мелкую мошенницу—я вытащил из свиного хлева! — подумал Ленин. — Кто поверит этому?» Он сделал вдох, мысленно счел до десяти и сказал:
— Дорогая, позволь мне объяснить...
— Оставьте меня. Уйдите.
«Уже и на „вы“! — поморщился Ленин. — Как она усвоила привычки так называемых порядочных женщин! Чуть что — сразу „вы“ и этот холодный тон... Поневоле чувствуешь себя виноватым».
— Дорогая, позволь обратить твое внимание на следующее обстоятельство: наш брак изначально был и остается фиктивным. О какой верности может идти речь?! Я вообще не обязан пред тобою отчитываться в своей частной жизни и сейчас делаю это лишь из уважения, которое питаю к тебе как... как...
— Обеды-то я вам не фиктивные стряпала. — От волнения к ней вернулась уже почти забытая простонародная манера выражаться. — И деньги для вас покером зарабатывала не фиктивные. А верности вашей мне не нужно, я вообще девушка, ежели вы забыли. Да только не желаю я, чтоб вы к своей прошмандовке шлялись в рубашечках, что я нагла... награ... нагадила. — Губы ее дрожали. — Хватит, надоело на вас зазря спину гнуть. Вы эксплоататор! Дайте мне развод. Я не старая еще. Может, на мне какой честный мужчина женится. По-настоящему, а не ради карт. Я ему деток рожу.
— Надя, какие детки?! Какой развод?! — Он схватился за голову. — Ты белены объелась, что ли?
— Не дадите развода?
— Не дам, — отрезал он. — Мы в церкви венчались. Ты пред Богом клялась, что будешь со мной в болезни и здравии.
— Вы мне сами все уши прожужжали, что Бога нет, а теперь вон как запели! Ренегат! Лицемер! Фарисей! Оппортунист! А не дадите развода — так я сама к курве этой пойду!
— Дура! — вспылил Владимир Ильич. И тут, как последний аргумент, ему в голову полетела чугунная сковорода — он едва успел увернуться.
— Я глазенки-то ей бесстыжие повыцарапаю!
— Дура, — еще раз сказал он, но уже мягче: в доме было еще много тяжелой посуды. И, хлопнув дверью, выскочил из дому.
«До чего я дожил — Надька Минога мне условия ставит! Дай бабе волю — мигом на шею усядется!» Он шагал быстро и сердито размахивал руками. Это была его первая серьезная ссора с женой за все прошедшие годы. Он и подумать не мог, что кроткая и услужливая Надежда — верный друг, отличный товарищ — когда-нибудь осмелится кричать на него и устраивать ему сцены, а тем более требовать развода и швыряться сковородками, как какая-нибудь мещанка. На развод согласиться он решительно не мог: так привык к ней, привык к нехитрому уюту, что она повсюду создавала для него, к ее неусыпной заботе, даже к разговорам с ней... А карты?! А шифровки, а конспекты? Дзержинский не мог знать, кто пишет за него статьи, но он-то знал!
Владимир Ильич остановился посреди тихой улицы, обсаженной платанами и вязами. Всего несколько двориков отделяли его дом от дома, где поселились Зиновьев с Каменевым и Инесса Арманд. Лонжюмо — крошечная деревушка, все обо всех болтают; неудивительно, что Надежде Константиновне донесли об Инессе... Хотя, возможно, никто и не доносил, а он сам был неосторожен. Но что же теперь делать? Он посмотрел на часы — у Инессы сейчас по расписанию лекция по макраме. Куда пойти? Он вылетел из дому без велосипеда — в Лонжюмо принято было передвигаться на велосипедах — и в одном пиджачке, а день был прохладный. Он решил вернуться — быть может, Надежда Константиновна уже поостыла, — и попытаться еще раз поговорить с нею. Но, подходя к калитке, столкнулся с женой — она, в накинутом на плечи платке, пронеслась мимо, делая вид, что не замечает его. Губы ее были сжаты, глаза, выкаченные, как у рыбы, казались еще больше обычного.
Он проводил жену взглядом и вынужден был признать, что со спины она выглядит вовсе не так уж плохо. До сих пор ему никогда не приходило в голову, что она может найти себе другого мужчину. «А может быть, уже нашла? И моя связь с Инессой — только предлог, чтобы просить развода? Ну нет, этого я не допущу!»
Он решил дождаться, когда у Инессы закончится лекция, и тогда пойти к ней и предупредить, чтоб не высовывала носа из дому, пока Надежда Константиновна не откажется от своих кровожадных намерений. Нужно было куда-то убить два часа времени. Он немного посидел у себя, но одному было тоскливо. Он оседлал велосипед и покатил снова к дому Инессы. Поднялся на второй этаж, который занимали два товарища, постучался и вошел. Зиновьев был один и ползал по полу, раскладывая гигантский пасьянс. Под глазом у него был свежий синяк. Но это уже давно никого не удивляло.
Зиновьев предложил Ленину кофе, но Ленин кофе не хотел; он спросил пива, но пива не было. Тогда они прибегли к обычному компромиссу, то есть выпили водки. Выпив, некоторое время они сидели молча, потом выпили еще. Зиновьев чесал в кудрявом затылке, зевал и все поглядывал на Ленина, не решаясь задавать вопросы: он ясно видел, что старый друг чем-то удручен. Наконец, не выдержав молчания, он спросил:
— Володя, ты в порядке?
— Запутался я, Гриша.
— Что такое?
— Надя требует развода.
— Из-за Инессочки?
— Ну да.
— Странный ты человек, Voldemare. Ну что тебе не жилось с Надюшей? Она так вкусно стряпает. Чего еще можно желать от женщины?
— От женщины можно желать очень многого, друг мой. Тебе этого не понять. Представь, что... Нет, ладно, ничего не представляй. Ты мне лучше скажи, Гриша... Ты ведь все сплетни собираешь...