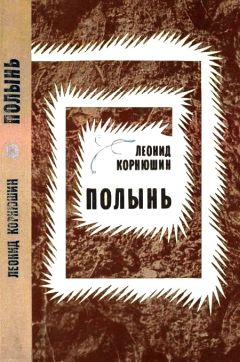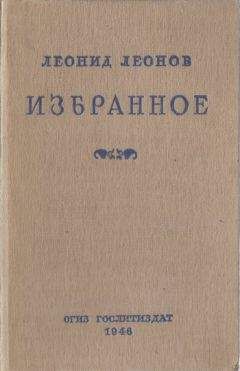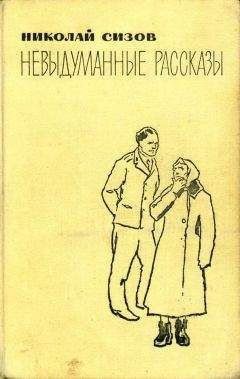Леонид Корнюшин - Полынь
Чистяков вспомнил, как эту песню пели по радио, пели нежно и таинственно, — солдат же пел по-своему, высоким, однообразным голосом.
Когда солдат кончил, Подопригора, посмеиваясь, похвалил:
— Просто в Большой театр человек просится.
— У него талант горшки выливать, — сказал, усмехаясь, Чистяков.
Солдат опустил голову, смущенно потрогал вихор волос. Лицо его еще дышало песней.
«Люди не умеют себя сохранять. Болтуны. Все разговаривают, даже поют», — подумал Павлюхин. Он немного отстал, чтобы его не раздражали голоса, — так он шел легче и ходче.
Расстегнув ворот гимнастерки, солдат поглядел на тундру, пошевелил ушами и сказал:
— Не надо думать о еде. Нас на походе учили.
— Мысль верная, я ее поддерживаю, — согласился Подопригора.
— Спой еще, — попросил Чистяков и посмотрел вдаль. Тундра тянулась к самому концу света, унылая, однообразная, — хоть рыдай от голода и тоски.
Солдат снова встряхнулся.
— Можно, — сказал он, — это можно.
Он рассмеялся, расширил глаза и ноздри и вытянул высоким прерывистым голосом:
Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не сидели —
Того дожидалися…
Подопригора потер щеку, подумал: «Вот человек… посмотреть — оглобля, в цирке выставлять, а в душе — золото».
Солдат кончил песню и сказал деловым голосом:
— Я знаю триста пятьдесят частушек.
— Ты их учил, что ли? — поинтересовался Подопригора, продолжая смеяться одними губами.
— Сами запомнились, — фыркнул солдат.
— Феномен, — сказал Чистяков.
Уже за полдень снова постукал по горизонту гром. Но туча, нависшая было с юга, ушла. Зажгли еще один костер.
Люди легли на землю, ловя разинутыми ртами редкие капли. Влага бесследно исчезала в траве, огонь не тух, а дымил. Подопригора посмотрел внимательно вокруг: почва лежала сырая и низкая — должна быть вода…
— Ждите здесь, я осмотрю, — приказал он.
Вернулся минут пятнадцать спустя с мокрым лицом и волосами, весь сияющий, радостно сообщил, отбиваясь от гнуса:
— Озерцо гнилое, а пить можно. Тут рядом.
Чистяков сорвался и побежал — с утра мучила жажда, а голод жил в них еще притупленно, будто во сне.
— Иди шагом! — сердито крикнул Подопригора. — Никаких резких движений! Я запрещаю. Сколько можно повторять?
Ржавая с прозеленью вода лежала сонно в маленьком, оплетенном кустарником озере. У берега тесным дремучим забором густилась осока.
Солдат снял сапоги, разложил портянки, от которых опять запахло его едким потом, засучил штаны, вошел в воду, напился пригоршнями и помыл лицо основательно. Семен положил вещмешок, сел и загородил его ногами, чтобы он меньше бросался в глаза.
— А ты чего? — спросил его Подопригора.
— Малость отдышусь, я сейчас, — отозвался он.
Когда трое вышли на берег, он влез в воду, раздвинул аккуратно жирный вонючий слой, зажал локтем мешок и долго пил с закрытыми глазами. Над озером, едва видимые, желтыми знойными пятнами перемещались комары; воздух был наполнен их тонким гудением.
Отбиться от них было невозможно. Подопригора поторопил:
— Пошли отсюда скорей!
Ноги просили отдыха. Но они не сели, боялись разомлеть от выпитой воды и усталости. Впереди была ночь для сна и голодного отдыха.
«Что со мной?» — тревожно думал Семен, вдруг испытывая сильный голод. Он сглотнул слюну, облизал языком губы. Мысленно он подгонял к земле солнце, которое несильно грело и словно остановилось в неподвижном небе. Ему хотелось, чтобы скорей пришла, легла черная ночь и все исчезло бы из видимости.
VIСолдат накрыл себя, Подопригору и Чистякова своей шинелью. А Семен лег, как обычно, немного поодаль, покопошился и затих. Солдат подгреб под спину рукав шинели, подогнул коленки и прислушался к своему организму. В нем свершалась какая-то таинственная работа, которую он не мог понять и не чувствовал никогда раньше. Прежде, в той жизни — ее он уже отделил от теперешней, — не было того, чтобы он не ел двое суток. Значит, это было новое в его жизни, и организм вырабатывал свой иммунитет против голода.
«О еде действительно надо не думать, это хуже, — решил солдат, — мысли о еде гнусно действуют».
Но оттолкнуть эти мысли было очень трудно, просто невозможно. Воображение рисовало кольца колбасы, пахучие котелки с гречневой кашей, горы котлет, окороков. И он снова начал прислушиваться к себе. В желудке сосало и тихонько булькало, а все остальное тело наполнялось непонятной легкостью, словно должен был оторваться и полететь. «Скверно, конечно, что становлюсь таким пустым, — подумал он, стараясь осознать свое состояние, — но это ничего, еще хуже будет. В войну, говорят, не то еще было».
Еще до наступления северной ночи Подопригора учил, как отвлекаться: нужно больно ударить себя, чтобы встряхнуться и вспомнить что-нибудь иное, интересное из своей жизни, особенно интимное.
Но у солдата в жизни пока ничего интересного и интимного не было, как он считал, и он стал думать о своем будущем на Кубани. Он перенесся мыслями к доброй земле, к своей станице. Вот уж край заповедный!
Солдат любил свою природу, она для него была такой же живой, как и люди.
Сейчас мысленно он шел по оврагам, по дну чистых речек и по рощам. И он удивлялся, как люди могут жить в городах, в толкучке и бензинной гари, а не в полях и в лесах, среди благодати.
Промаявшись и слыша посапывание Подопригоры, который всегда засыпал сразу, как только ложился, солдат сказал себе: «Спи, порядок есть порядок: ночью нужно спать».
В это время шорох коснулся его слуха. Солдат раскрыл глаза и увидел тень, которая удалилась в темноту и исчезла в ней, а больше ничего не было слышно и видно, и все замолкло.
Чистяков придвинулся ближе к солдату, тихо спросил:
— Он не лунатик?
— Я не верю в предрассудки, — сказал солдат.
— А как оцениваешь? Он же боится гнуса, а уходит…
— Характер. У каждого свой мотор.
— Что ты бузишь! Какой еще мотор?
— Ты все понимаешь как «А» да «Б», — тоном учителя сказал солдат. Подумав порядочно, он больше ничего не прибавил и перевернулся на другой бок.
Чистяков висел над его лицом мутной тенью.
— Третью ночь бегает. Слышишь?
Солдат не отозвался. Чистяков лег на спину и посмотрел в небо. Веселая светлая звезда прямо над его лицом вздрагивала и сверкала своими серебряными гранями. Чистяков зажмурился, проваливаясь в сон, подумал: «Жениться и то не успел, дурак…»
Павлюхин вернулся к костру, радуясь тому новому, сильному и здоровому чувству, которое снова к нему пришло, и, успокоенный, лег и положил голову на мешок: он заметно уменьшился. В его душе уже не было той смутности и борьбы, как во вчерашнюю ночь, когда он так же отлучался. Сознание того, что он ни в чем не нарушил закона, успокаивало его совесть — ее ведь можно по-всякому толковать.
«Догадываются, почему отлучаюсь с мешком? Как бы не отобрали!..»
И он заснул тем крепким, глухим сном праведника, каким спят после длинного изнурительного перехода паломники, совершившие единственную и верную молитву. В полночь он очнулся в ознобе, хотя по-прежнему было тепло и тихо. Ему почудилось, что на него смотрят в упор три пары глаз, а шесть рук тянутся к горлу, чтобы навсегда разлучить с жизнью. Но те трое спали. В тундре нигде не слышалось ни звука. Вокруг только бесприютно шатался ветер, чуть шелестя жесткими травами.
VIIВесь день четвертых суток была сильная, изматывающая жажда и голод. Подступала тошнота — словно легкое, мятное вино кружило голову. Это было иное, отличающееся от прежних суток состояние — так бывает, когда ныряешь в воду с открытыми глазами, в уши давят глухие шумы и видишь дно сквозь зеленую текучую пелену.
Утром дважды, стороной — один раз ближе, другой раз дальше, — пролетели самолеты, — но всей видимости, как определил Подопригора, поисковые «Яки». Люди махали руками, но «Яки» не заметили ни их, ни костер — пропали на северо-востоке.
К середине дня голод усилился и, казалось, должен был сжечь все тело. Во рту сохла вяжущая кислота, хотелось пить, и в мире ничего не было, кроме этой жажды и голода.
Перед глазами Чистякова появились серые точки, количество их мгновенно увеличилось, — теперь они плыли сплошной бурой колышущейся лентой. Он мигал, тер кулаками глаза.
— Опусти ресницы, пусть отдохнет зрение, — посмотрев на него внимательно, сказал Подопригора.
Чистяков сделал так. Пройдя немного, он открыл глаза, увидел прежний, нормальный мир с добрым солнцем, безмятежной тундрой и несколько успокоился.
Солдат произнес таким тоном, как будто он один знал тайну голода:
— Потерпи, скоро нам станет легче. Точно говорю.