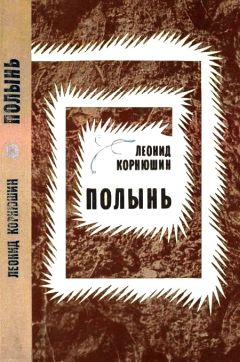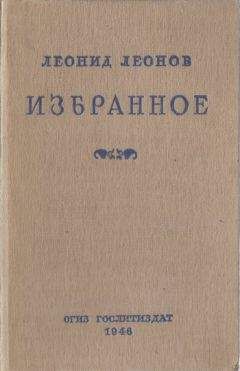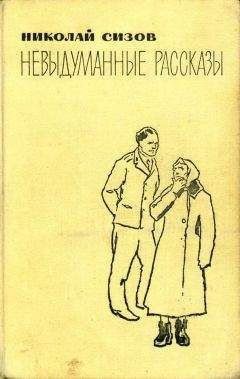Леонид Корнюшин - Полынь
— Осилим! — уверенно сказал солдат.
И все, замолчав, посмотрели на Подопригору. Тот ответил не сразу.
— Другого решения быть не может. К тому же нас будут искать именно на этом направлении, — отозвался он.
«Теперь надо меньше говорить, — сказал неслышно самому себе Павлюхин, — а то быстро израсходуешься». Он подтянул за спиной вещевой мешок повыше, размеренно зашагал последним. Он любил все делать последним — оттуда выглядывал он на жизнь, отчетливо видя ошибки и непоправимые трагедии людей.
IIIДень занялся теплый и тихий. К полудню припекло солнце. Цвела во мху северная медуница, радовали глаз, успокаивали ее синие цветочки.
Нога уходила в мягкое, как в подушку, но, к счастью, мхи скоро кончились, — теперь двигались по бурой, более или менее крепкой земле. Иногда ровная гладкая полоса земли, напоминавшая дорогу, круто виляла вбок, и тогда Подопригора погружался в низкие чахоточные лишайники, чтобы не сбиться с пути, — он шел строго по компасу.
Если лишайники были не сплошь, а местами, они обходили их. Горизонт стлался все так же далеко, и тундра впереди из пятнистой сливалась в ровный белесый цвет, словно там побрызгали ее оленьим молоком…
Подопригора знал: пока на руках у него компас, нацеленный на Верховинск, люди до последних сил будут идти за ним, и он будет вести их на одной воле.
«Главное — внушить людям, что обязательно дойдем до Верховинска без единой корки хлеба, на одной траве. Дойдем, хотя бы на это потребовался месяц. Черт бы побрал эту аварию!»
Длинные четыре тени медленно перемещались по тундре. Солнце уже пылало на закате, под ним растекалось красное зарево, а выше белые облака громоздились диковинными далекими городами, и над всем царствовал вечный, нерушимый покой.
— Красоты сколько! — восхищенно проговорил Подопригора, но не остановился, лишь немного замедлил шаги: он твердо решил как можно реже делать привалы.
— Землю поймешь, когда по ней ногами потопаешь, — отозвался Чистяков сзади тоном пожилого, опытного человека.
Солдат вытащил пачку «Беломора». Закурили и пошли ходче. Хрустел под подошвами жесткий мох.
Закат линял, вытекая, точно прохудился, и в невидимую дыру исчезал красный огонь.
Впереди, где с утра видели припадающий к земле дождь, засверкала изломистая, похожая на лист папоротника быстрая молния. Она изгибалась, хлестала через края огромной пустынной земли, потом уходила спиралью ввысь, сверля небо. По белым призрачным городам, созданным из облаков, прокатился гром. Налетел короткий сердитый ветер, травинки робко, болезненно жалуясь, прошептали что-то. Испуганно пискнула птица и смолкла. Ветер ушел, тундра насторожилась под взъерошенными тучами. Острей и внятней запахло теплым мхом и чем-то горьким. В траве прошуршали капли. Одна, крупная, упала на щеку солдату, он стер ее пальцем и сказал практичным голосом:
— Дождь — наш попутчик.
— Почему? — спросил Чистяков.
— Можно лечь, раскрыть рот и так напиться. Мы на походе так делали.
— И все-таки, ребята, я его не приветствую, — сказал озабоченно Подопригора, поглядывая в небо.
— Дождь не всегда нужен, — промолвил Павлюхин и подумал, что эти произнесенные три слова за день — намного, но лучше бы совсем молчать, а поговорить можно на отдыхе, и это будет даже полезно.
Тьма от надвинувшихся туч постепенно сгущалась, все скручивая в клубок и суживая мир земли. Люди пристроились гуськом, один за одним, — их фигуры под выкатившейся луной потянулись далеко, как огромные столбы.
Нудно хотелось есть, но о еде не надо было думать. Требовалось идти, идти…
IVБез четверти час ночи развели костер, легли на землю и забылись, но сон к ним не шел. Дождь не пролился, прошел стороной и пропал там… Только гром еще картавил невразумительно в северной части неба, но вскоре и он заглох.
Павлюхин встал, взял пузатый вещевой мешок, огляделся… Отошел осторожно за кусты.
— Куда ты? Далеко не уходи, — предупредил Подопригора.
— Я тут, — отозвался Павлюхин, отмахиваясь: «Проклятый гнус!»
Сняв сапоги и размотав портянки, солдат в блаженстве аккуратно разложил их около себя, чтобы продуло ветром. Чистяков, поморщившись, сказал:
— Гнусный запах, убери, пожалуйста.
Солдат смотал портянки, не возражая, положил себе под голову и подумал, что такому, как Чистяков, не мешало бы тоже понюхать солдатчины, а так он, кормленный белым хлебом, — слабак.
— В каком роде войск служишь? — поинтересовался Чистяков.
— Пехота, — нехотя отозвался солдат.
— То-то от ног пехтурой воняет, — сказал Чистяков и засмеялся.
— А ты думал, в пехоте дом отдыха? — упрекнул его Подопригора и спросил солдата: — По какому году?
— По второму.
— А дом твой где? Не землячок, часом?
— Я с Кубани. А вы?
— Родился в Вологде. А жил везде. Только у черта лысого не жил. — Подопригора прислушался: ни звука, ни шороха. — Куда он запропастился? Что-то нет его долго.
Чистяков приподнялся на руках.
— Возможно, поискать?
— Что вы егозите, он осторожный, — сказал сердито солдат.
В это время почти неслышно подошел Павлюхин, лег и положил голову на свой мешок. Комары отстали от него за костром.
— Ты где был? — спросил Подопригора после молчания.
— Живот заболел. Понос изводит.
— Полыни пожуй. Помогает, — посоветовал солдат.
— Попробую.
— С чего бы живот? — удивился Чистяков.
— Пил на болоте днем. Может… с воды, — буркнул Павлюхин.
— Спать, хлопцы, — приказал Подопригора. — Никаких разговоров!
Над ними всплыла полная сверкающая луна, потом припряталась в тучу, — оттуда засматривала узким ведерным ободочком, как в начале затмения, и словно дрожала в дымке костра.
VПавлюхин был человек лет сорока пяти, с коротким, как бы стесанным туловищем, с жирными ляжками и с непроницаемым выражением лица. Он работал директором крупного промтоварного магазина и летел по командировочным делам в Верховинск. Павлюхин никогда не делил жизнь на хорошую и плохую, так как имел совершенно твердые, незыблемые убеждения, сводившиеся к тому, что плохая жизнь у тех, кто не умеет жить, а хорошая у тех, кто умеет, и себя он относил к последним. Всюду, где он работал, считали его гуманным человеком, иные даже прекрасным потому, что он никогда не кричал, не выходил из ровного состояния и делал ту очевидную внешнюю приятность людям, которая не стоила ему никаких усилий. Правда, люди умные, зоркие, он это знал, ненавидели его, но сам Павлюхин, исходя из своего понимания жизни, считал их обиженными, не умеющими жить, и потому на людях милостиво прощал их такое отношение к нему.
К сорока пяти годам жизни он имел все, что должно быть у наделенного значительными возможностями человека, — большую квартиру, дачу, машину, и были хорошо пристроены в институты дети, — так что теперь Павлюхин был вполне доволен собой: он добился всего.
Сейчас он хвалил себя, что взял вещмешок, который ему очень пригодился, и чувствовал свое превосходство над этими людьми, которые не умели жить.
«Я сильней, чем вчера, а это хорошо», — подумал Павлюхин утром, проснувшись и затягивая штаны на прежнюю, обычную дырочку ремня. Начинались вторые голодные сутки.
Подопригора медленным взглядом повел по лицам, хотел что-то сказать ребятам, подбодрить и раздумал: держатся спокойно. Он пошел снова впереди, а они тронулись за ним цепочкой.
Но Подопригора вскоре остановился, по-кошачьи вглядываясь в пустынный горизонт. Солдат задрал голову: над ними лишь плавало, как недозрелый подсолнух, негорячее солнце.
— Лобов пошлет именно «Яки», — сказал Подопригора. — У них слабый мотор — далеко не услышишь. Надо раскладывать и оставлять за собой костры.
Через полчаса они оглянулись: за их спинами в тундре одиноко темнел дымок.
…Павлюхин испытывал упругость своих ног, в груди по-прежнему хорошо билось сердце. Широко вдыхая чистый воздух, он думала «Ничего, спокойно только. Каждый рождается, чтобы ходить по своей дороге, получать, что дает жизнь. Главное, ни в чем не нарушать закона, остальное в самом человеке, все для него и в нем же умрет».
Часа через полтора он сказал себе: «Думать надо тоже меньше. Надо силы копить, а когда думаешь — тоже опустошает».
— Запеть можно? — спросил солдат и посмотрел на Подопригору. Тот подумал и кивнул головой.
Солдат откашлялся, прилаживаясь, потрогал рукой свою длинную шею, убеждаясь, на месте ли она, вскинул голову и запел неожиданным для его роста тенором:
Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит…
Чистяков вспомнил, как эту песню пели по радио, пели нежно и таинственно, — солдат же пел по-своему, высоким, однообразным голосом.