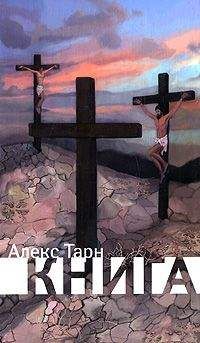Алекс Тарн - Дор
— Слушай, — сказал Дор. — Почему?
— Почему тебе сейчас так больно? Роды — это всегда больно, сынок.
— Я не об этом. Почему ты тогда ушел?
Отец пожал плечами.
— Ты меня разочаровываешь. Дору такие вещи должны быть понятны без объяснений. Илье — нет, но Дору…
— Свобода?
— Конечно. Свобода — это когда ты выбираешь сам — ты, а не обстоятельства — свои или чужие.
— И какими же обстоятельствами были для тебя мы с мамой — своими или чужими?
— Я думал, ты понял, — глухо сказал отец. — Хотя бы тогда, когда сам уходил, после маминых похорон. А впрочем, неважно. Бери свой гвоздь и делай то, за чем пришел.
Дор протянул руку за гвоздем, но в это время нитяной клубок шевельнулся в другой его ладони. Он встал.
— Нет, благодарю. Мне нужно идти, Минотавр. Зовут.
— Кто?
— Обстоятельства… — улыбнулся Дор, показывая клубок. — Видишь ли, мою свободу выбирают обстоятельства. И поэтому я сейчас выйду на свет, а ты… ты останешься сидеть здесь, весь в рогах и в лабиринте. Прощай, бык-осеменитель.
Рогатая морда вдруг дернулась и поплыла, превращаясь в толстое щекастое лицо тетки-проводницы.
— Ну и шут с ней, с гамнастеркой, у нас другая есть, — сказала она и пододвинула к нему гвоздь… хотя нет, какой же это гвоздь?.. это пятак, обычный медный пятак! — На, возьми, сынок, на метро.
Дор послушно взял пятак и вышел в подземный переход на Петроградской. Теперь он мог справиться и без клубка. Нужно перейти, подняться наверх и свернуть направо, по Большому проспекту, а там уже близко. Мама вот-вот родит, а роды — это всегда больно. Дор занес ногу на ступеньку и проснулся.
Солнце просовывало узкое жало сквозь щель в жалюзях, прожигало в зеркале ослепительный минус. Все то же, минус Рахель. Ее отсутствие означало присутствие пустоты, дыры с рваными краями прямо по центру души. Дор встал с постели и пошел на кухню, поддерживая обеими руками свою ущербную душу, как раненный в живот — вываливающиеся кишки. Следовало поесть, но есть не хотелось; несмотря на то, что вот уже сутки он не ел ничего, кроме беды, беда оказалась исключительно сытной, хотя и горькой на вкус.
Пересиливая тошноту, он впихнул в себя йогурт, тщательно вымыл и вытер полотенцем ложечку, вернул ее в ящик буфета, затем закрыл глаза, досчитал до ста и, обнаружив, что сильно опасается результатов этого простого теста, досчитал еще раз — для собственного успокоения, которого, впрочем, не последовало. Но отступать было некуда; Дор глубоко вздохнул, открыл глаза и тут же вздохнул снова, на этот раз с облегчением: буфет, не в пример вчерашнему воображаемому комоду, по-прежнему стоял на месте, во всеоружии всех своих ящичков, дверец, витринок и разделочных досок.
Значит, реальность вернулась по крайней мере на кухню; может быть, так же вернется и сама Рахель? Главное — поддерживать порядок, всеми силами поддерживать порядок. Придя к этому неожиданному, но бесповоротно верному заключению, он открыл мусорницу под раковиной — выбросить пустой стаканчик из-под йогурта. В ведерке белели обрывки бумаги. Мусор. Хочешь знать чьи-то секреты — взгляни на его мусор. Ты ведь хочешь знать ее секреты, не так ли?
Он выудил бумажки из ведра и принялся раскладывать их на кухонном столе, тасуя, как детали паззла. Один за другим сложились глянцевые листки-флаеры, из тех, какие просовывают под дворники машин и в почтовые ящики: реклама детского цирка, сообщение о космических скидках на предметы земной сантехники и расписание занятий районного кружка тай-ши. Увы, это ни на шаг не продвигало Дора в его поисках. Поисках?.. Выходит, ты собираешься ее искать? Конечно, а как же иначе? Дор с минуту просидел без движения, привыкая к этой мысли — очевидной на первый взгляд, но пришедшей ему в голову только сейчас.
Так. Поддерживать порядок. Что-то зацепило его взгляд, когда он сметал бумажные клочки назад в мусорное ведро. Посомневавшись, Дор стал заново вытаскивать обрывки. Нет, не тай-ши… и не сантехника… наверное, вот это, с козой-канатоходицей… Он вчитался в мелкие буквы рекламного текста и похолодел. Перед ним лежало не просто объявление о спектакле детского цирка — нет, это была реклама концерта в онкологическом центре. В онкологическом центре! Подобного рода флаеры просто физически не могли появиться в почтовых ящиках спального иерусалимского района или под дворниками машин на университетской стоянке. Зачем? Наверняка их распространяли только в самой больнице или, возможно, в соответствующем диспансере — среди потенциальных клиентов. Следовательно, эта рекламка оказалась в руках Рахели по одной-единственной причине…
— Вовсе нет, — одернул он сам себя. Могут существовать и другое объяснения.
— Например?
— Например, в университете тоже есть медицинский факультет. Или — Рахель может помогать ребятам из цирка или даже участвовать в нем… Или… не знаю… да мало ли что?
— А ее стрижка, Дор? Ее стрижка налысо ни о чем тебе не говорит? Или все-таки напоминает о…
— Господи…
Он вскочил и слепо забегал по квартире, задевая плечами углы мебели и дверные косяки. Тогда… тогда можно истолковать ее побег. Возможно, она не хочет вступать в длительную… или не длительную, но просто душевно значимую связь, чтобы не причинять беспокойства… да какого там беспокойства?.. — горя! Или, как вариант, она легла сейчас в больницу на какие-нибудь мучительные процедуры и не хочет, чтобы он знал об этом… Или… не знаю… да мало ли что?
Одно не подлежало никакому сомнению: он просто обязан найти ее как можно скорее. Он должен объяснить ей ситуацию, которую Рахель, видимо не понимает, несмотря на крайнюю ее — ситуации — простоту, заключающуюся в том, что он, Дор, не может без нее жить — элементарно задыхается, соскакивает с катушек, лезет в комод… или как это еще обозначить… Что ей нужно было думать раньше — до того, как она начала искать компаньона… а точнее — до того, как она поселилась в этой квартире… а еще точнее — до того, как она вообще появилась на свет! А теперь уже поздно! Поздно! Теперь уже есть факт налицо, то есть — он, Дор, наибольшим горем для которого является ее побег, ее отсутствие, а наибольшим счастьем, наоборот, — присутствие — любое — лысое, волосатое, кашляющее, сопливое, издыхающее… — любое!
Дор наспех оделся и выбежал из дому. Автобус подошел сразу, словно подтверждая тем самым правильность его действий. Искать, искать… Из-за полуденного времени пассажиров на остановках почти не было; нигде не задерживаясь, автобус лихо скатился с Гило, пролетел Катамоны и Пат; стоя у задней двери, Дор нетерпеливо перебирал ногами, словно помогая движению машины… вот и перекресток со Шнеуром… он выскочил и побежал вверх по склону холма к воротам Ботанического сада.
Конечно, всерьез рассчитывать на то, что Рахель обнаружится тут же, на грядках, не приходилось: даже у чудес есть границы возможного. И тем не менее… не бросит же она на произвол судьбы свои драгоценные стебельки! Ну да! Их не бросит, а его… Это странное, нелепое сопоставление пробудило в нем столь же нелепую ревность. Тщательно оглядывая, обыскивая все аллеи и уголки сада, Дор уже не был уверен, обрадуется ли при виде знакомой соломенной шляпы. Найти Рахель здесь и сейчас, склонившейся как ни в чем не бывало, с совком и грабельками в руках над каким-нибудь дурацким цветком… — о, это выглядело бы слишком несоразмерным ее чудовищному бегству.
Но нет, в саду не оказалось никого, кроме насекомых и птиц, недоуменно наблюдавших за возвратно-поступательными маневрами Дора. Похоже, цветы и растения в полной мере разделяли его печальную участь — участь брошенных, покинутых, забытых… Дор сочувственно потрепал по курчавой макушке подвернувшийся под руку куст и вышел через университетскую калитку, оставив за спиной зеленых товарищей по несчастью. Бедняги… в отличие от него, они могли лишь пассивно ожидать ее возвращения, гадая “будет — не будет” на собственных лепестках.
У двери в секретариат топтались студент и студентка.
— Тоже к Мазаль, братишка? Становись в очередь.
Дор вздохнул и прислонился плечом к стене. Слишком многое зависело в кампусе от секретарши Мазаль Шотыхошь, чтобы попасть к ней вот просто так, с разбегу. Она ведала и пересдачей экзаменов, и местами в общежитии, и платой за обучение. Но и этому огромному объему работы Мазаль могла уделять в лучшем случае лишь треть своего драгоценного времени. Оставшиеся две трети посвящались ее главной и истинной страсти — ногтям. То яркокрасные, то темнозеленые, то канареечно-желтые, но всегда удивительно красивые, отливающие ровным перламутровым блеском, они балансировали на той крайней степени длины, которая граничит с уходом в загиб, то есть — с угрозой превращения из ногтей в когти, а потому требовали постоянного и пристального внимания.