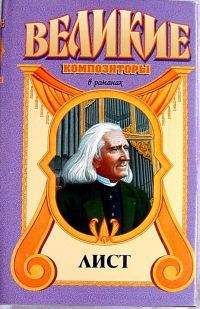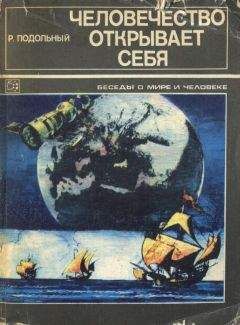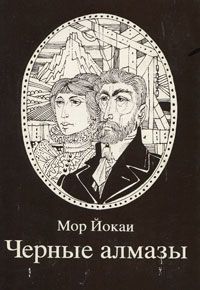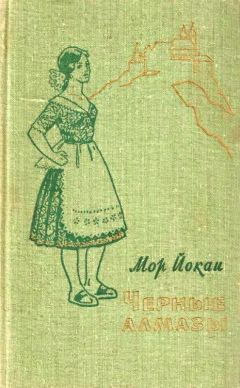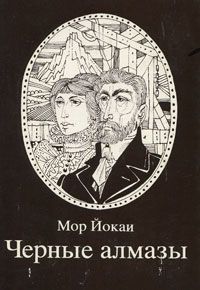Дёрдь Конрад - Соучастник
Иногда я отправляюсь брать «языка», и, если все проходит удачно, взятый в плен солдатик пишет однополчанам: здесь его не обижают, переходите, не бойтесь. В своей передвижной радиорубке я изготавливаю тысячи копий его письма, листовки эти разбрасываются с самолета над венгерскими позициями. С утра я допрашиваю пленных, а после обеда венгры уже читают мои соболезнования по поводу скверного обеда; я сообщаю, кто ворует мясо, кто приторговывает теплой одеждой. Я называю по именам членов полевого суда и грожу им: не смейте выносить смертные приговоры; начальнику охраны штрафного батальона грожу: не смей забивать своих людей насмерть, тебе лично придется за это ответить. Я довольно много знаю о том, что там делается, а они, видимо, думают, что я знаю еще больше. Безо всяких оглядок, даже со страстью я пользуюсь приемами психологической войны.
В Восточной Польше мне пришлось допрашивать одного летчика-истребителя: накануне вечером он еще танцевал с любимой девушкой в будапештском баре, на рассвете улетел на место службы, утром послан был на боевой вылет, русские сбили его, он выпрыгнул с парашютом, а вечером уже лежал рядом со мной на ничейной полосе, свежими будапештскими сплетнями и шутками повергая в уныние скорчившихся в грязи, до нитки промокших солдат, чей боевой дух от этого, конечно, не становился крепче. Он рассказал, как здорово было сидеть в маленькой корчме, в Обуде, за столиком, накрытым чистой скатертью в красную клетку, за пивом и мясом по-венгерски. «Давайте кончать эту чертову войну и — по домам, парни. Будем чистить картошку, пока жена тушит лучок и кипятит молоко детишкам».
А то еще со своим передатчиком я настраивался на частоту будапештского радио и вставлял в дикторский текст свои реплики. Целью моей было разоблачать и высмеивать неуклюжую, грубую ложь; диктор предупреждал слушателей: «На линии — враг». «Враг — тот, кто не дает нам спать в постели с собственной женой», — парировал я и тут же сообщал, что уже целые войсковые соединения сложили оружие. Уж они-то по крайней мере не будут в этом пустынном краю торчать живыми мишенями перед русскими, которые защищают свою землю.
Десять лет спустя я уже не испытывал такой гордости, когда на улице ко мне обращались прижимающиеся к стенам, незаметные люди с опущенными глазами. Это я сагитировал их перейти к русским, я встречал их на той стороне, и многие из них только теперь добрались домой из украинских шахт или со строек каналов в Сибири; на лицах у них застыла печать въевшегося в душу неверия и привычки помалкивать. «Если бы я не перебежал тогда, — несмело говорил кто-нибудь, — десять лет уже был бы дома». И горько махал рукой: что об этом думать теперь! Слабым утешением служил тот довод, что ведь и я мало чего достиг. После тюрьмы развозил на грузовике хлеб в булочные. «Зато ешь, сколько влезет, верно?» — говорили они с завистью. «Да, не совсем то получилось, что ты нам обещал». Я соглашался: не совсем то. Усталое рукопожатие: «Ты ведь тоже не все тогда знал», — звучали снисходительные слова.
На фронте, пожалуй, действительно многое представлялось иным; хотя и тогда уже было не вполне однозначным: ведь я хотел победить, не заплатив цену победы. Не стыдился я и того, что воюю против венгерской армии; но, когда русские орудия пядь за пядью обрабатывали территорию неприятеля и на полях, перепаханных снарядами, зимнее небо ваяло в снегу посмертные маски мужских лиц знакомой до боли конструкции, тщетно я себя успокаивал: мол, я же стреляю в них только листовками, чтобы не размазало их кровавым месивом по мерзлой земле. Пусть убийство само по себе не входило в круг моих прямых обязанностей — я, с окровавленными по локоть руками, и сам стал подручным на этой бойне, где лагерь военнопленных был только одним из цехов. Я произносил зажигательные речи, а в это время вереница телег везла к братской могиле плоды моей агитации, тела моих соотечественников с торчащими тазовыми костями, испачканными кровавым поносом.
17К офицерской форме полагается денщик и чистка сапог. Петрушка в основном валялся в землянке и давил вшей, которых в изобилии добывал из швов на своих штанах. Он был, как все молодые парни, сладкоежка, и, если я не мешал ему объедаться мармеладом и печеньем, он тоже проявлял человечность и высасывал лишь половину моей водки, остаток же не разводил водой. Когда я ругал его последними словами, у него портилось настроение, но перед красноречием он не мог устоять. «Ради Христа, Петр Егорыч, да помой же ты ноги! Хорек, и тот помрет страшной смертью, если тебя понюхает. Пойди-ка в окоп да сними сапоги: если подует восточный ветер, увидишь, немцы противогазы наденут». Петрушка набирал снега в наш тазик для умывания и, словно садясь на электрический стул, совал туда ноги. И молился — так, чтобы я тоже слышал: «Спаси и сохрани, Господи, от бодливой коровы да от капризного хозяина!»
Однажды я не выдержал и возмутился: «Петр Егорыч, мне ей-богу денщик не нужен, а ты — уж совсем ни к чему!» На что он покраснел и нанес мне удар в самое сердце: «Полгода я твой храп слушаю, сколько мук мученических вынес, а теперь, когда наконец научился спать рядом с тобой, ты меня прогонишь?» «Ладно, Егорыч, грешен, не сердись на меня, лучше сбегай в офицерскую столовую за бутылкой, одессит-то с утра еще звал». Услыхав радостную весть, Петрушка забыл про свои обиды: «Будь ты просто бес, Николай Андреич, еще бы куда ни шло. Но ведь ты — бес с выкрутасами, а меня за то, что тебя терплю, к лику святых надо причислить». Я сдался: «Будь ты моя жена, Петр Егорыч, страшнее тебя не придумать бы: до тех пор свое гнешь, пока не окажется, что ты полностью прав».
Еврей-одессит в самом деле передавал сегодня: «Пускай Мойше, пьянь мадьярская, за бутылкой приходит». При посторонних он называл меня — товарищ капитан; но, если мы были одни, я становился Мойше, как он сам и как любой единоверец. Он объяснил, почему взял в жены православную: «Ты знаешь, еврейка всегда плачется: то болит, это болит, к врачу ей надо, и ты ни о чем больше думать не можешь. А если на русской женился, все совсем по-другому: православная баба всегда плачется: то болит, это болит, к врачу ей надо. Только кого это интересует?» Кого интересует? Он был герой на словах, а в жизни — чистой воды подкаблучник. Светке своей он ежедневно писал по два письма, подробно информируя ее о состоянии дел на складе: мыло хозяйственное поступило, зато беда, нитки кончились, и все такое. Фотографиями широкоскулой, плосконосой, с короткими волосами, с ямочками на щеках Светки он оклеил всю столовую и, проходя мимо, целовал их. Когда жена однажды приехала его навестить, он, желая порисоваться перед ней, кидался на каждого входящего офицера, высыпая на них кучу бородатых анекдотов и старорежимных одесских острот. Светка с загадочным видом стояла возле прилавка, стряхивая крошки с черной, курчавой мужниной бороды. «Моисейка, миленький мой, да помолчи ты! Я верю, что ты умный, верю, даже если ты не говоришь ничего».
18Наш командир был казак от бота: усы до ушей, мог вскочить на коня в галопе, с гармошкой в руках, наяривая плясовую. Стоя на седле, выпивал пол-литра водки, даже не пошатнувшись. Пожалуй, и пышногрудых, смешливых девок-санитарок он охотнее всего укладывал бы под себя прямо на своем воронке с белой звездой во лбу — если бы тех не тянуло больше на матрац, набитый настоящим конским волосом, рядом с раскаленной командирской буржуйкой. Через двадцать лет стал он знаменитым советским политическим деятелем; напыщенные, скучные речи, которые он читал по бумаге, ничем не напоминали его в молодости. Но когда он, во главе большой делегации, приехал в Будапешт, что-то, видно, еще оставалось в нем от прежнего лихого вояки: недаром же он сразу стал разыскивать меня, хотя ему и не советовали этого делать: ведь я только что во второй раз вышел из тюрьмы.
Разыскал он меня тогда точно так же, как и годами раньше, спустя год после войны. Я проводил какое-то дурацкое совещание; вдруг входит солдат в форме НКВД, с автоматом, с малиновыми петлицами, и прямиком к столу: прошу следовать за мной. Политические мои соперники лоснятся от счастья; а едва дверь за мной затворилась, принимаются ненавидеть друг друга: кто займет мое место? У подъезда — велосипед. Солдатик вежливо, но решительно просит меня сесть на багажник и очень советует не убегать. О том, куда мы направляемся, молчит. Но когда он выдохся — я все-таки был тяжелее, — я предложил поменяться местами, и хорошо, если он все-таки же скажет, куда мы едем. Он назвал ресторан с садом в Городской роще; я слегка удивился. В районе цирка и зоопарка появилось еще несколько подобных странных пар на велосипедах. При входе в ресторан стоял часовой; меня проводили внутрь, и тут я все понял. Бывший мой командир, восторженно матерясь, обнял меня. Он в Будапеште проездом — и, чтобы немного развлечься, решил собрать друзей, на такой случай снял ресторан, а заодно и карусель напротив. Когда огненная палинка уже вовсю играла где-то между нашими головами и щиколотками, он пригласил нас пересесть на несущихся по кругу, под мелодию венгерского вальса, красных и золотых деревянных коней. Карусель кружилась без остановки, на нее бесплатно прыгали большерукие, большеногие влюбленные пары, бродившие под руку в Городской роще. Под звуки механического фортепьяно скакали и мы с моим командиром, словно летя в атаку, подгоняя лошадок, свежевыкрашенных по случаю первой годовщины освобождения. «Здорово мы это устроили, Колька! — вопил командир. — Дай руку, брат!» Благоухая сливовицей и зеленым луком, держась за руки, радовались мы долгожданной свободе, которая в тот вечер, полный скорлупы от тыквенных семечек, сахарной ваты, медовых пряников, в тот вечер, пропахший жирной жареной колбасой, звенящий медными тарелками и смехом, точно так же кружила голову, была такой же веселой и пестрой, как карусель.