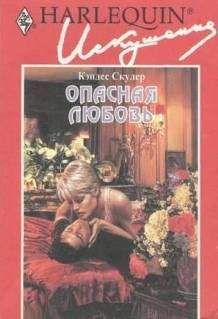Хуан Онетти - Избранное
И только когда она вскочит с постели, чтобы разогнать их затрещинами, когда, разбитая и обессиленная, остановится посреди комнаты, сжав у бедер кулаки, напрягшись, приказывая себе улыбаться, только тогда они заговорят с ней монотонными, назойливо-неутомимыми голосами, которые не добиваются понимания и ответа, а звучат лишь ради собственного удовольствия.
Вот они зовут ее с шипением и свистом у самого уха или с подвыванием из несусветной дали, с замерзших звезд, из морской бездны, где погребена первая кость, зовут равнодушно, нежно, требовательно, умоляюще, насмешливо, серьезно, делят имя на слоги, точно выводя трель, повторяют его до хрипоты, до того, что сами превращаются в имя. «Они мое имя, они Кека, они я сама», — внушат они ей и разбегутся, и, пока она, успокоенная и улыбающаяся, ощупывает себя — «они — это я, никого здесь нет, их нет», — они поджидают ее в постели и будут тыкать в ее тело пальцами, подделываясь под ритм дождя, несильно, только для того, чтобы не дать ей заснуть и держать в страхе.
Последний из трех непогожих дней сменился ночью, она за стеной все плакала — звук приглушался слезами, прилипшей ко рту завесой волос, искусанными суставами пальцев, — когда я решил встать и пожевать на кухне хлебных и сырных корок; я раздавил в руке черный банан и выпил немного воды над могильным запахом холодильника. Может быть, завтра; впредь, видно, не стоит так полагаться на предзнаменования. Но это не я убью ее, это будет другой, Арсе, никто. Я был всем тем, чего уже нет, — индивидуальным воплощением меланхолии, приступами беспредметной тоски, мелкими жестокостями, годными на то, чтобы, причиняя себе боль, узнавать, что ты жив. Разыскав в благоуханиях шкафа пачку писем Ракели, я сжег их одно за другим, не разворачивая, в кухонной раковине. Проходившие перед глазами фразы я читал вслух, не понимая ни их смысла, ни того, что делаю, читал с остановками, тщетно возбуждая в себе печаль: «Дни, когда мама со мной почти не разговаривала. Совершенно так же, как удовольствие быть с ним и остаться одной. Был в Бразилии и рассказал мне о товарище, с которым вместе сидел. После „обращения“ я только и делала, что пыталась убедить в этом маму. Выше и намного умнее меня, но Гертруда никогда не сможет понять. Тут атмосфера полностью менялась, и какое-то веселье… Сидеть на собрании в углу и расплачиваться за то, что мне…»
Открыв кран, я разрушил обугленную бумагу, уцелевшие невразумительные слова, обведенные траурной каймой, усиленные и зловещие. Я вышел на балкон, ступил босыми ногами в дождевую воду и обязал себя думать о поездке в Монтевидео, представлять, как я поддерживаю лоб Ракели, когда ее рвет, как вламываюсь в номер Кеки и разыгрываю сцену ревности, которой она ожидает, которую считает моим долгом.
Кека плакала в перерывах между сонными всхрапами, между нелепыми фразами из писем Ракели. Если бы я, прежде чем сжечь, неторопливо перечитал их, если бы сейчас шел к концу пятый год нашей совместной жизни, все равно было бы то же самое. Струя над хрупкими, иссушенными остатками бумаги, тяжкий и веселый удар воды, черные обломки рассыпаются в прах, крутятся над клокочущим стоком. Она не плачет больше, должно быть, спит, оставив гореть до полудня лампу, которая светит на голую ногу.
Я вернулся в постель, полный решимости уничтожить Диаса Грея, хотя бы пришлось затопить провинциальный город, разбить окно, к которому он прислонился в послушном и обнадеживающем начале своей истории, без интереса озирая пространство между площадью и уступами берега. Диас Грей был мертв, а я без сна лежал на простынях в старческой агонии, слушая журчание воды, которой томно истекали тучи. Я начал покрываться морщинами с той самой ночи в Монтевидео, когда впервые благодаря сводничеству Штейна заключил Гертруду в свои объятия в двухэтажном доме, деревянные стены которого, пропитавшись за двадцать лет брачных ритуалов и семейных торжеств респектабельностью и бессменной идеей «мой мир — мой очаг», сочились приличием и нормами благопристойности; спровоцировал свою старость в момент, когда согласился остаться с Гертрудой, повторяться, приветствовать годовщины, надежность, радоваться дням, которые не будут канунами конфликтов, выбора, новых обязательств. В свой распад я вовлекал Диаса Грея, Элену Сала, мужа, вездесущего беглеца, возведенный мною на склоне город, дружески устремленный к реке. Вместе со мной умирал и едва намеченный конфликт между жителями города и обитателями швейцарской колонии, грузными, энергичными и строгими; между ленивыми креолами Санта-Марии и людьми, которые кормили ее, делая здесь покупки, наезжая толпой по большим праздникам (не тем праздникам, что сами они, их отцы и деды привезли из Европы вместе с твердой волей и надеждой, растрепанными молитвенниками и тусклыми фотографиями, помеченными на обороте датой, а по чужим, не соблюдавшимся ими всерьез, но удостаивавшимся их участия), когда они несмело, со сдержанным возбуждением гуляли по площади и набережной, посещали кинотеатр, торговые кварталы, которые называли центром, где черноволосые мужчины, подпирая спинами стены, насмешливо и не без романтической зависти смотрели на их медленное нарядное шествие семьями, от которых веяло несокрушимостью. Конфликт порождался взаимным скрытым презрением, проглядывая в иронических улыбках и интонациях смуглых людей, в улыбках и голосах, выражавших у блондинов искательность и беспокойство, близкое к неуверенности, когда они меняли в магазинах деньги, покупали автомобили, молотилки и оставляли на столиках кафе, нелюбезно, неискренне, чрезмерные чаевые, в конечном счете только усиливавшие пренебрежение.
Все это исчезло без боли, без намека на сожаление. Вот и мы, вот новорожденный человек, о котором я не знаю ничего, кроме ритма пульса и запаха потной груди. Храпит спящая Кека — если она вспомнит свой сон и захочет рассказать мне его, то завтра скажет: «И тогда „они“ поднялись, как морская волна, чтобы накрыть меня, пока я не заговорила, потому что мы одновременно догадались: если я произнесу имя, назову каждого из них по имени, я их убью»; дождь кончился, с балкона дует ветер и бьет фотографию Гертруды затылком и носом об стену. Итак, завтра — удивительно знать это с такой несомненностью; небо очистится, и новый человек выйдет на улицу. Я усну и проснусь; попытаюсь понять себя, украдкой поглядывая в зеркало ванной, подстерегая и фиксируя движения своих рук; постараюсь выяснить, чего мне держаться, как будто это необходимо, с притворным безразличием задавая себе хитрые вопросы о боге, любви, вечности, родителях, людях трехтысячного года; с кривой улыбкой, говорящей лишь о том, что мне немного стыдно жить и не знать, что это значит, сяду завтракать; удостоверюсь, что с тех пор, как некто сочинил стихи на слова проповедника, которые цитировал покойный Хулио Штейн, когда опьянение заставало его без женщины, не произошло ничего важного и, глядя на залитую новым солнцем улицу, попробую заменить их фразами, которые намекнут на похоронные извещения, детские головы и сладострастие влюбленных.
Я пойду в южную сторону и соблазнюсь мыслью изъять Диаса Грея из всемирной катастрофы, начавшейся ночью и, видимо, окончательно завершившейся утром. (Женщины с сумками и корзинами, раздраженные занятые мужчины, рассекая утренний свет, не подозревают, что умерли вместе со мной, что улицы, по которым они идут, скрылись под морями и лавой.) На площади Конституции я снова усядусь в кафе, что поближе к центру, куплю сигареты и буду держать зажженную сигарету во рту, чтобы дым перед глазами застилал расположение деревьев и суету грузчиков, пешеходов, такси, торговцев, лишая смысла деятельность, которую я созерцаю. И тогда — для этого мне не понадобится шевельнуть ни лицом, ни пальцем — Диас Грей проснется в гостинице Ла-Сьерры, обнаружит, что женщина рядом с ним мертва, поранит пятку, раздавив на полу пустые ампулы и шприц; униженно, пораженный справедливостью, поймет, почему Элена Сала сказала «да» накануне; уступит власти мелодраматического чувства, вообразит себе будущего друга, предназначенного выслушать его исповедь: «Понимаете, она была уже мертва, когда я обнимал ее, и она это знала». В сером сумраке, отойдя на несколько шагов от мертвой женщины, будет глядеть на ее очертания в постели. Когда посветлеет, заглянет ей в лицо, увидит ее спокойной и вежливой по возвращении из поездки в места, которые сотворены из изнанки вопросов, из никем не подобранных откровений повседневности. Мертвая, возвратившаяся из смерти, твердая и холодная, как преждевременная истина, она воздержится от оглашения своих испытаний, своих маршрутов, своих трофеев.
IX
Визит Ракели
Вытекло немного крови, легко было представить, что нос с каждой секундой заметно распухает. Кека отдавалась методичным и равнодушным ударам, не делая попыток к обороне или бунту, если не считать ровного, почти непрерывного смеха, источник которого — ненависть — обнаруживали тщательность и упорство, с какими она, звук за звуком, отделяла этот смех от плача, где он рождался; забота и внимание, с какими она очищала смех от податливости и слез.