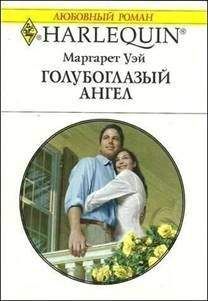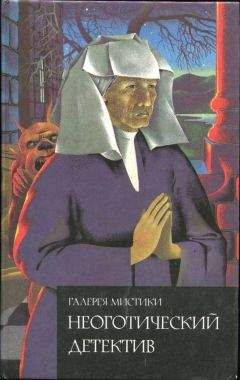Маргарет Лоренс - Каменный ангел
— Генри, что все-таки стряслось?
— Одевайся и пошли, — ответил он. — По дороге расскажу.
Те несколько миль, что мы ехали в Манаваку, показались мне бесконечными. Генри сидел за рулем своего старенького грузовичка-«форда» и рассказывал — настолько издевательски медленно, что мне хотелось на него наорать и заставить выложить все сразу, сию же минуту.
— Он в больнице, — сказал он. — Авария получилась, Агарь. Он…
— Все плохо? Что с ним?
— Не знаю, — промямлил Генри. — Думаю, точно пока никто не знает.
А потом он все рассказал. Его старший сын был на танцах и слышал, как Джон, впервые за несколько месяцев напившись, поспорил с Лазарусом Тоннэром, что проедет на грузовике по эстакадному мосту. Арлин пыталась отговорить его, но он ее не слушал. Она поехала с ним.
— Он убедился, что поездов нет, — рассказывал Генри. — Не настолько он был еще… ну, ты поняла. Хэнк говорит, он специально посмотрел, что поездов нет.
— Грузовик… упал?
— Нет, — ответил Генри. — Мост он переехал, Бог его знает, как ему это удалось. Но переехал.
— И…
— Грузовой особого назначения, — сказал Генри. — В расписании его не было. Вез картошку и чего-то там еще для малообеспеченных. Прямо перед самым мостом он повернул, где и Вачаква поворачивает. Когда его увидели, было уже слишком поздно.
Никто не виноват. Где рождаются причины, в каком далеком прошлом их искать?
— Арлин… — произнесла я, внезапно вспомнив про нее. — Серьезно пострадала?
Генри обнял меня одной рукой за плечи, словно извиняясь, что ему приходится мне такое сообщать.
— Сказали, погибла мгновенно, — ответил он.
Мне казалось, что вышла какая-то ошибка, что это не может быть правдой, — ну никак не может. Мы вечно норовим все списать на ошибку — уж слишком быстро это происходит! Каких-то пару часов назад оба были живы и здоровы. Ну за такой-то короткий срок не могло же все так поменяться.
— Он будет жить? — спросила я.
Генри не ответил, и я вдруг поняла, насколько это бредовая идея — задавать такой вопрос другому смертному.
В ночной больнице царила полнейшая тишина, в стерильных коридорах не чувствовалось даже малейшего дуновения ветерка. Пришла старшая сестра, вся торжественно-важная, я проследовала за ней. Я не думала ни о чем, то есть вообще ни о чем, и все же мне вспоминается, что в голове моей кружила одна не оформленная в слова мысль. Если ему суждено умереть, путь это случится не на моих глазах.
Лицо Джона было изодрано, но это лишь первое, что бросалось в глаза. Самые страшные травмы оставались невидимы. Он был без сознания. Я присела у высокой и узкой больничной койки и стала ждать. Медсестры и доктор то заходили, то выходили, проводили процедуры, говорили что-то друг другу и мне. Я их не замечала. Я смотрела только на его худое, обожженное солнцем лицо, прямые черные волосы. А потом — то ли много часов, то ли несколько минут спустя — он открыл глаза. Свои обычные серые глаза, которые, если застать их врасплох, смотрели на мир с такой всеобъемлющей надеждой, что вынести это было решительно невозможно. Уже через мгновение, однако, в них отразилась паника.
— Арлин… — произнес он. — Что с ней?
— Цела, — сказала я. — Отдыхай.
Дышал он неглубоко и с трудом, а глаза наполовину закрыл.
— Я не хотел, — сказал он. — Прости меня…
Он слегка повернул голову ко мне, снова открыл глаза и ухмыльнулся, как всегда неожиданно и горько.
— Повел себя как дитё малое, да? — сказал он. — Пора бы уже понять, что этим ничего не добьешься.
— Тише, — сказала я. — Все будет хорошо.
С минуту он не издавал ни звука, а потом его вдруг накрыла боль, проникла в него и захватила со всей своей дьявольской яростью. Он закричал. Когда он заговорил снова, это были уже только кусочки, обрывки фраз.
— Мама… мне больно. Больно. Ты можешь… их позвать? Пусть мне… дадут чего-нибудь.
Я хотела сказать, что пойду и попрошу сестру сделать укол. Но не успела что-либо сказать или сделать — Джон хрипло засмеялся, делая себе еще больнее.
— Не можешь, — отчетливо произнес он. — Ведь не можешь же. Ну и ладно. Забудь.
Он накрыл мою руку своей, как будто ему вдруг захотелось утешить меня, сказать, что ничего уже не изменишь.
Говорила ли я что-нибудь, что говорила, и услышал ли он меня — этого я не знаю. Он лежал молча и дышал все слабее и слабее. А потом умер. Мой сын умер.
Поздно ночью старшая сестра проводила меня к вестибюлю, где все еще смиренно ждал Генри Перл, и, проходя по чисто вымытым безмолвным коридорам, я увидела в одном закутке то, что видеть была не должна, — каталку, а на ней нечто, покрытое белой тканью, словно алтарь в день Причастия. От неловкости сестра кашлянула.
— Вот беда-то, так и не доехало до нас похоронное бюро Камерона. Симмонсы уже приезжали. Такая красотка была.
Я почти обезумела от гнева.
— Вам-то откуда знать, какая она была, какой он был?
Она сочувственно приобняла меня:
— Поплачьте. Не сдерживайтесь. Легче станет.
Но я скинула ее руку со своего плеча. Выпрямила спину — как оказалось, это была одна из сложнейших задач в моей жизни, но я справилась. Я решила, что не заплачу на людях, чего бы мне это ни стоило.
Когда же наконец я очутилась дома — я сидела одна в комнате Марвина, а какие-то женщины из города варили на кухне кофе, — выяснилось, что слезы слишком долго сидели взаперти и теперь отказываются литься по моему велению. В ночь, когда умер мой сын, я превратилась в камень, неспособный плакать. Женщины, которые вызвались помогать с похоронами и теперь принесли мне горячего кофе, все твердили, как мужественно я переношу горе, а я лишь смотрела на них сухими глазами как будто из далека и не произносила ни слова. Вплоть до самого утра в голове сидела одна мысль: как много я хотела ему сказать, сколько всего исправить. Он не стал ждать.
Наверное, многие жители Манаваки недоумевали, почему я не захотела поехать на кладбище после панихиды. Я не желала смотреть, как его положат рядом с его и моим отцами, под плитой с двумя именами, в тени покосившегося каменного ангела.
Через некоторое время я пошла навестить Лотти. Но если раньше между нами был хотя бы хрупкий и тонкий мостик, то сейчас и тот был разрушен. Мы пообщались всего пару минут. Она не винила меня, равно как и я ее, но нам нечего было сказать друг другу. Горе раздавило Лотти. Она слегла, и, когда Телфорд, сам еле державшийся на ногах, провел меня в ее комнату, я увидела лишь помятую атласную сорочку персикового цвета, мокрую льняную подушку и закрытые глаза.
— Она сама не своя, — сказал Телфорд. — Оно и понятно.
Я смотрела на него и пыталась представить, каково это, когда рядом заботливый муж, всегда готовый накрыть тебя одеялом и принести еду прямо в постель. Возможно, я была к ней несправедлива. Но я не могла себе позволить страдать, как она. Кто стал бы заботиться обо мне?
Все, что имело хоть какую-то ценность, — угловой шкаф из орехового дерева, дубовый буфет, кресло с диваном и несколько сохранившихся фарфоровых чашек, — я упаковала и отправила Марвину. Продажу дома Шипли я поручила адвокату, перенявшему дело Люка Маквити после его смерти. Затем вернулась на побережье, к мистеру Оутли. Очень вовремя, ибо дом как раз нужно было подготовить к возвращению хозяина из Калифорнии.
На следующий год мистер Оутли умер, завещав мне десять тысяч. Я купила дом. Больше мне тогда некуда было пристроить такую сумму. В тот же год в Манаваке выпало довольно дождей за весну и начало лета, чтобы пшеница пошла в рост.
Через несколько лет началась война. Цены на пшеницу подскочили, и фермеры, у которых не было ни цента, теперь покупали комбайны и новые машины и проводили себе электричество. Много парней из Манаваки погибло. Я читала об этом в газетах. Почти все они служили в одном полку, «Камеронские горцы», и сражались под Дьепом (так, кажется), в общем — там, где были большие потери в живой силе, как тогда писали газеты, словно речь шла об оловянных солдатиках, у которых нет матерей. Те, что вернулись, получили государственные пособия и могли при желании пойти в колледж или открыть свое дело.
Он мог бы выжить или не выжить на той войне. Кто знает? Да и зависит ли судьба от внешних обстоятельств? Кажется, я плачу. Я трогаю лицо: рука скользит по мокрой от слез коже. К моему ужасу, совсем рядом раздается человеческий голос:
— Черт возьми, как все грустно.
Я не знаю, кто это, но потом память возвращается: здесь был мужчина, мы с ним разговаривали, я пила его вино. Но я не хотела ему рассказывать всего этого.
— Я говорила вслух?
— Да все в порядке, — отвечает он. — Все нормально. Всегда полезно облегчить душу.
Как будто речь о глистах, которых надо изгнать из тела. Да и ладно. Он говорит доброжелательно. Я рада, что он здесь. Мне не жаль, что я все ему рассказала, совсем не жаль, что само по себе удивительно.