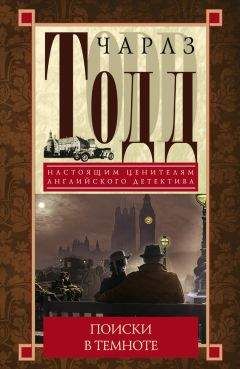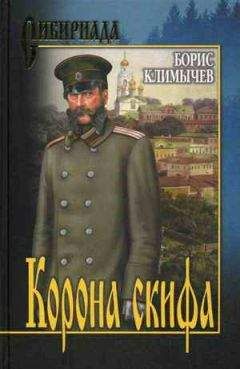Сергей Каледин - Записки гробокопателя
— Чего? — весело дернул башкой Нуцо. У него на все случаи было только одно выражение лица — бесшабашное, ни к какому другому выражению физиономия его не была приспособлена. — Чего орешь?
Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно: зачем отрывает от работы?
— Проверка слуха! — Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на ходу: — Готовь Танюшку, Констанц! Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут! Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!..
— Гроба, — пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу. — В час к общаге подъезжай!
Он поправил ударение в «гробах» на уральский лад, потому как с Женькой Богдановым, Богданом, познакомился в прошлом году в эшелоне — их, погань, вывозили из стройбатов Уральского округа.
Потом, уже по приезде в Город, оказалось, что от скверны освобождался не только Урал, по многим стройбатам страны прокатилась очистительная волна.
Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой минус пятьдесят, питьевая вода по норме, песок в морду и радиация все половое атрофирует. Это — слухи, а что шоферня стройбатовская там по пятьсот-шестьсот рэ в месяц заколачивает — факт. А полтыщи казна за так платить не будет.
Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в Четвертый поселок. От центра Города до ворот КПП двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа, метров двести, — танцверанда; вот ворота, а слева, метров двадцать, — магазин. А в магазине — рассыпуха молдавская, семнадцать градусов, два двадцать литр. С десяти утра. Малинник! Дай Бог здоровья отцам командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за Читой.
Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной пудры — бабам в поселке почему-то очень нужна, — изюмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жри — не хочу.
Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных, а так как у Кости со зрением напряженка да и загазованный уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть.
Командир роты капитан Дощинин предложил Косте на выбор: или он дело заводит, или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски, не случайно он был похож на артиста Жженова (у Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино). Только Георгий Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дощинин, на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь. Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? «За падло» скажут, ничего другого не скажут.
Костя поделился сомнением с Богданом.
Женька пожал плечищами:
— Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо! А вякнет кто… Никто не вякнет.
Костя перевел дух и сказал Дощинину: согласен.
В помощники Косте Женька выделил Фишу и Нуцо Влада.
Фиша — человек старательный и не брезгливый, потому что из деревни. Сам он до армии плотничал, отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рассказывал, что там, в Карпатах, полно их, деревенских евреев.
В армии Фиша как скаженный вцепился в учебники, в поселковой вечерней школе за год окончил два последних класса, аттестат у него уже был на руках, а он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, подполковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехнического института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал два раза в неделю на зависть всему стройбату.
Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в роте проку от него было мало, чуть отвернись — учебник из-за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте в помощники. И Нуцо Влада сбыл, тоже проку мало — цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем цыган, а частично молдаванин. Вернее, в основном молдаванин, а частично цыган. Не поймешь, короче.
А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал Косте и Фише досрочный дембель, как закончат, а первогодку Нуцо отпуск на десять дней.
Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом троих — Кости, Фиши и Нуцо — остались пять пахарей. Миша Попов из Ферганы — грузчик на мясозаводе. Одессит Коля Белошицкий, Эдик Штайц, немец из Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился, в анаше то есть, вестибулярный аппарат не работает. Команда «направо», а его налево несет; «кругом» — на пол-оборота больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой, блондинистый. Проще говоря, никакой. Ну, и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками на край света готов пешком бежать. За эти побежки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой скорости, больше для острастки, но крутит.
И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и Максимка, Егорка и Максимка — это по местному времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и Шота Иванович Шалошвили. На ЖБИ работают, раствор бетонный льют.
Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода четвертой роты N-ского военно-строительного отряда. А Женька Богданов — ефрейтор.
Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте подарить, да потом одумался всего-то пахарей у него эти, двое. Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка кроме основной работы Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку заправить, пайку принести из столовой, постирать по мелочи; а Максимка — Колю, Эдика и Старого.
Да, еще Старый у Женьки в отделении — шестеро их, значит. О Старом как-то все забывают — не видно, не слышно всю дорогу. Работает Старый на автобазе слесарем, в канаве все время торчит, а в роту приедет — в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Боится, что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Призвали его за неделю до дня рождения — двадцать семь должно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к концу разобрались, что не убивал он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку, выпустили на два года раньше. А тут хоп — и в стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый завел было жизнь на вольный манер и скоро убыл в дисбат на максимальных два года. Какой он был раньше, неизвестно — сажали его не в этой части, — но сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый, руки в окостенелых мозолях. Про дисбат — ни слова. Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке повело Старого на подвиги, и срезал он с какой-то пьяной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ребят изметеленного почти до основания. Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлялся: чего это ему вдруг взбрело — часы срезать? Тем более свои есть. «Командирские», светящиеся.
Егорку Женька обратал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился подольше — грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидали, что Шота Иванович их на Богдана настропаляет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы Шота больше был похож на грузина, они б его в обиду не дали. А он ни то ни се: белобрысый, шершавый, грязный. А так-то грузины — не больно их обратаешь! С усами все. Им на усы специальное разрешение от министра обороны. Чистюли: только и знают мыться да бриться. Бреются, правда, насухую: хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.
Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доносились песни.
Сам Костя на здешней губе не бывал, Бог миловал. Зато остальные из роты почти все побывали. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться на этой губе, не очень даже и заметной: если б не вышка, не проволока — домик и домик. Да, домик… почки отобьют для смеха — и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуцо до сих пор моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что, может, калека на всю жизнь. Может, еще рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и не был.
Да ладно только б лупили губари, а то совсем оборзели — «расстрел» организовали. К стенке поставят и давай… Нуцо как раз под этот знаменитый «расстрел» и попал. Вырубился, конечно. С непривычки.