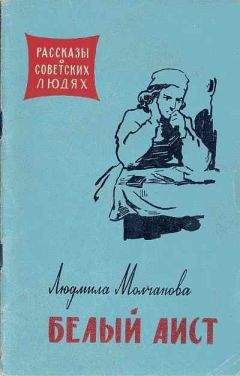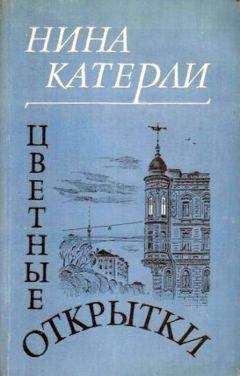Кристиан Барнард - Нежелательные элементы
Врач повернулся к говорившему — они впервые увидели его в таком гневе.
«Не истеричка, осел вы эдакий, а мать ребенка, умирающего от неизлечимой болезни».
Вот эта фраза и всплыла сейчас в сознании Деона. И до конца осмотра он не решался больше смотреть на отца девочки.
Профессор Снаймен увидел Мэри-Джейн на вечернем обходе. Он улыбнулся ей, когда ему подали историю болезни.
— Привет, малышка.
— Привет, — спокойно ответила Мэри-Джейн.
Она уже, успела привыкнуть к больницам за два с половиной месяца, когда ее впервые госпитализировали для биопсии, которая к всеобщей радости и удивлению некоторых не показала наличия злокачественной опухоли. И все же д-ра Мейерсона что-то мучило. Массу в почечной лоханке нельзя было объяснить только отечными эпителиальными клетками. Может, следовало брать более глубокую пробу?
Была сделана повторная биопсия, и когда патолог (он докладывал и по первой биопсии, величина в своей области, он редко ошибался) посмотрел срез под микроскопом, круглые клетки, стелоидные, веретенообразные, полосатые мышечные клетки и клетки мезенхимы подсказали диагноз. Патолог только раздраженно языком прищелкнул, и лаборантка, готовившая ему срезы ткани за столиком в углу, с интересом посмотрела на него. Но он пожал плечами и ни слова не сказал.
Профессор Снаймен все улыбался девочке, пока осматривал ее, а потом стал торопливо листать историю болезни.
— Мне нужна цистоскопия и внутривенная рентгенограмма почечной лоханки и мочеточника, — сказал он, обращаясь к Деону, стоявшему наготове с журналом обхода. — Договоритесь с урологом, пожалуйста.
Он кивнул Биллу дю Туа, давая понять, что хочет видеть его отдельно, и поспешно направился к выходу из палаты. Билл дю Туа последовал за ним, держась на шаг сзади. Они вполголоса переговаривались на ходу. И Деон, у которого был отличный слух, уловил обрывки фраз.
«…единственный способ… — говорил Снаймен. — Я вынужден…» Тут они вышли, и дальше он уже ничего не слышал.
Деон накануне вечером перечитал то, что удалось найти по саркоме гроздевидной, и мог теперь процитировать все почти слово в слово.
Он сидел один в своей комнате в бунгало, машинально перелистывая учебник по детской хирургии. Вообще этот случай с опухолью, которая съедает сейчас организм девочки, подействовал на него угнетающе — он чувствовал себя подавленным. Третьего дня старший врач остановил его в коридоре и спросил: «Вы ведь из детского отделения, не так ли? Что там за случай с гроздевидной саркомой, вы в курсе? Предстоит фантастическая операция!»
Господи Иисусе, слово-то какое нашел!
Деон посторонился, чтобы дать дорогу санитарке, везущей в операционную каталку. Прижмись к стене и не мешай хоть ты здесь никому, сказал он себе. Он в это утро был зрителем, не единственным впрочем, — слух о том, на что решился старина Снаймен, облетел уже всю клинику. Правда, он постарался прийти пораньше, решил, что проводит напичканную транквилизаторами девочку из палаты, и успел занять место получше, у изголовья стола, сбоку от старшей операционной сестры.
Снаймен стал делать разрез. Он быстро принимал и отдавал инструменты.
В уме Деона мелькали сжатые бесстрастные фразы из учебника. Саркома гроздевидная. Вероятность излечения крайне незначительна. Зарегистрированы лишь отдельные случаи отсутствия рецидивов в течение пяти лет после хирургического вмешательства. Странно, откуда взялись именно эти пять лет, что за магия на бесчисленном счету у рака? Почему именно пять?
Саркома гроздевидная… Не поддается излечению радиотерапией. Рекомендуется радикальная хирургия.
В сознании вдруг всплыло: «Отец твой спит на дне морском, он тиною затянут, и станет плоть его песком, кораллом кости станут».[10] Как давно это было. Ну да, «Буря» — спрашивали на вступительных экзаменах.
Вот и мой отец умирает. Это уже ясно: распад, медленное истощение организма. Но когда умирает старик, с этой мыслью еще можно как-то примириться. От этого не легче, но ты знаешь, что придет день, и ты подойдешь к уготованному тебе концу — тут ничего не поделаешь. Но Мэри-Джейн Фаулер, трех лет? Вдоль стены на полу стояло множество всяких приборов. Деон осторожно качнулся на пятках, подался назад, пока не почувствовал спиной холодный кафель стены, да так и остался стоять, привалившись к ней, не отрывая глаз от рук хирургов, трудившихся над телом ребенка.
Как там дальше? «…Он не исчезнет, будет он лишь в дивной форме воплощен».
Да, изменение несомненно происходит. Но кто может сказать, какую форму оно примет?
Он не думал, что отец девочки даст согласие на операцию. Такой покорности судьбе от человека с грустным взглядом он не ожидал. Но разве можно что-то предсказать? Люди — существа странные. Сложные и странные.
Вчера утром оба, и отец и мать, были в слезах, когда возвращались вместе с профессором Снайменом из его кабинета. В палату они так и не вошли — просто постояли за дверью и оттуда украдкой в щель посмотрели на свою девочку. А потом на цыпочках удалились. Вечером в приемные часы мать пришла одна.
Сегодня же утром они снова явились вдвоем, и отец опять, как в прошлый раз, был холоден и суров. Но что-то в нем надломилось. Перемена произошла еле уловимая, но ее не скроешь: «будет он… в дивной форме воплощен», — ничего тут не поделаешь.
Что им оказал старик? А что бы он сам, Деон, сказал в такой ситуации?
В самом деле, что тут скажешь? Выбор сурово прост, и остается лишь поставить их перед этим выбором, а в каких словах — вокруг да около или прямо, — это уж зависит от твоего характера. Но (и в этом вся суть) окончательное решение ты оставляешь все-таки за ними или искусно подводишь их к уже сделанному тобой?
В том-то и дело: выбор всегда за тобой. И в конечном счете ответствен или виновен — формулируй это как хочешь — все равно будешь ты.
Это то, что тебе даруют, когда, выпуская из университета, надевают поверх твоей мантии цепь. Никакое это не отличие — не степень и не звание, а петля на шее, обязывающая тебя принимать окончательное решение. Выбор простейший: жизнь или смерть, и вместе с тем самый сложный.
Ну и что я бы им посоветовал? — размышлял он.
А Снаймен тем временем уже забрался глубоко в брюшную полость. Билл дю Туа, второй ассистент, следил за его руками и все время заботливо корректировал свет. Сегодня почти не было разговоров, никаких этих грубоватых мрачных шуточек.
Жизнь — самое дорогое. Расточай ее, губи ее — на все воля твоя. Отвернись от нее, стремись поскорее уйти из нее, пройди по ней не задумываясь — все равно она остается величайшим даром тебе.
Но все ли возможно, все ли дозволено, дабы сохранить ее?
Лучше быть живым, чем мертвым. Конечно, ни один разумный человек не станет это оспаривать! На этом и основывается человеческое существование.
Но так ли это?
Стало быть, лучше жить с водянкой головного мозга, вести растительный образ жизни, влачить существование, менее осмысленное, чем скот бессловесный? Лучше жить, когда ничто, никакие наркотики на свете не в состоянии облегчить невыносимую боль конечной стадии рака? Лучше жить обрубком после хирургических операций, неполноценным до конца дней своих?
Непросто ответить! Но я хоть это сознаю и, значит, обладаю крупицей мудрости.
Профессор Снаймен только изредка обменивался отрывистыми замечаниями со своим первым ассистентом. Но вот старик показал ему что-то в брюшной полости, что-то резко спросил и движением носа поправил соскальзывавшие с переносицы очки. Сестра замешкалась, подавая ему пинцет, и вопреки обыкновению он набросился на нее. Когда она повернулась к подносу с инструментами, видно было, как побагровели у нее лоб и уши над маской.
Сегодня обстановка в операционной была гнетущая.
Кто из нас непогрешим? — размышлял Деон, стоя в неудобной позе у стены и наблюдая за неуклонным продвижением операции. Кто может быстро вынести вердикт, когда подсудимый — сама жизнь? Кто этот мудрый судия, способный безошибочно изречь «да» пли «нет», когда обстоятельства столь неясны, причины скрыты и доказательства сомнительны?
И все-таки судить приходится нам. Так и поступил Снаймен, произнеся приговор три дня тому назад, и без колебаний.
Да, конечно, весы научных доказательств склонились тогда полностью в пользу его выводов. Иного выхода не было. Малейшее промедление, и через два года — самое большее — ребенка не станет. Все авторитеты сходились на этом. В лучшем случае, если обстоятельства сложатся удачно, оставалась лишь крохотная надежда на то, что девочка выживет. И уповать тут приходилось только на хирурга.
Тем не менее немногие хирурги решились бы на то, что, по общему признанию, было единственным выходом.