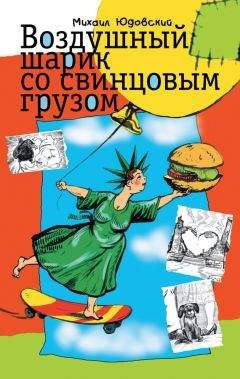Сволочь - Юдовский Михаил Борисович
Надя ахнула.
— Ты что. совсем сдурел?
— Я накосячил, я себя и покарал, — смиренно проговорил я.
— Это ж надо так с головой не дружить. Погоди, я сейчас лед принесу.
— Не надо льда, — улыбнулся я. — Дай мне лучше кофе с бутербродом, а то я сегодня не ел ничего.
— Что-то глаз у тебя быстро заплыл, — покачала головой Надя, сострадательно вглядывясь в мое лицо. — И красный уже весь, как буряк.
— Это потому, что ему стыдно перед тобой, — ответил я. — Вот он и прячется, и краснеет. Да ты не переживай, скоро эта дурацкая краснота пройдет, и он станет фиолетовым, как губы у покойника.
— Ну тебя к черту! — Надю передернуло. — Дурак какой. Бери свой кофе с бутербродом и садись где-нибудь у стенки, чтоб тебя видно не было. Псих ненормальный. У меня ж теперь весь день руки трястись будут.
Я и в самом деле присел у стеночки, где можно было не слишком себя афишировать, с удовольствием жуя и попивая. Спустя некоторое время в буфет наведались мои друзья-фокусники. Мне во второй раз за день захотелось сделаться невидимым, и опять не удалось.
— Ага! — с присущей им деликатностью заорали мои друзья на весь буфет. — Привет укротителю укротительниц!
— Рты закройте, — прошипел я.
— Да ладно, не скромничай, распутная тварь… Мамочка родная, что это у тебя с глазом?
— Поцелуй бешеного зверя, — буркнул я.
— Это Люсьена тебя приложила?
— Зося, леопардиха. Я их вчера ночью перепутал.
— А мы тебя предупреждали, что она стерва.
— Полегче насчет стервы. А то я вам такие же фрески под глазами устрою.
— Ладно, не кипятись, рыцарь. Так что, сегодня к нам после концерта?
— Не-а.
— Опять, что ли, к Люсьене? Тебе одного подбитого глаза мало?
— Мало. У меня их все-таки два.
— Смотри, как бы ни одного не осталось. Ох ты, какие розы! Она тебе, значит, в морду, а ты ей цветы?
— Каждый дает другому то, что может.
Эта светская беседа, признаться, меня утомила, и когда друзья мои отлучились к буфетной стойке, я, прихватив сумку и цветы, удрал из буфета в зрительный зал. Зал был наполовину пуст, и я бесконфликтно занял место в первом ряду. Вскоре начали стекаться остальные зрители, заполняя ряды параллельными ручейками, и среди тех, что, подобно мне, предпочли места поближе к сцене, я узнал вчерашнего бородача. Бородач тоже узнал меня и в нерешительности остановился. Я жестом пригласил его присесть рядом со мною. Бородач покачал головой, а затем, присмотревшись ко мне и обнаружив подбитый глаз, расплылся в улыбке, показал большой палец и, что всего возмутительней, подмигнул. Подмигивать в ответ, имея в распоряжении единственный здоровый глаз, было глупо, поэтому я ограничился ответным жестом, заменив большой палец средним.
— Молодой человек, — зашикали на меня, — ведите себя прилично!
— Вы это лучше вон тому бородатому скажите, — огрызнулся я. — А то он мне второй день покоя не дает. Улыбается, корчит рожи, подмигивает, как черт знает что. Мне даже подумать страшно, что за мысли прячутся под его бородой.
От готового вспыхнуть конфликта нас уберег конферансье — выйдя на сцену, он объявил начало концерта. Люсьена выступала на этот раз в первом отделении, и номер свой, надо сказать, отработала блестяще. Она, вроде бы, не делала ничего особенного с магической точки зрения, трюки были не новы и заурядны, но в каждом ее движении было столько искрящейся энергии, столько раскрепощенной силы и пленительной неги, что зал устроил ей овацию. Под гром аплодисментов я подскочил к сцене и возложил на нее цветы.
— Ты была великолепна, — тихонько проговорил я.
— А ты снова украл цветы, — так же тихо отозвалась она. — Ограбил еще одну свадьбу?
— Нет, — улыбнулся я, — обчистил могилки на кладбище.
— Молодец какой… А что это у тебя с глазом?
— С упырем кладбищенским подрался. Эти вурдалаки совсем распоясались.
— Ладно, я с тобой еще вечером поговорю.
— Обязательно поговори.
Я с трудом дождался, пока закончится первое отделение, затем антракт, затем вторая часть, а затем, наконец, разъедутся по домам и гостиницам публика и артисты. Отмучавшись, я направился за кулисы в Люсьенину гримерку. По дороге я встретил все ту же парочку рабочих сцены, чадивших под пожарным щитом папиросами и потягивавших портвейн. Казалось, с момента нашей первой встречи они не поменяли ни место, ни позы, и я вдруг подумал, что они так и родились под этим пожарным щитом, держа в руках пластмассовые стаканчики с портвейном.
— Эге, здоров! — приветствовали они меня. Потом заметили мой оплывший глаз и обрадованно добавили: — Циклоп!
— Вечер добрый, упыри, — заученно отозвался я.
— Че, набил вчера морду кошаку?
— Набил.
— А у самого фингал под глазом?
— Подумаешь, фингал. На кошаке вообще живого места не осталось, просто под пятнами не видно.
— Уважаем, — сказали рабочие. — Выпить хош?
— Нет, — ответил я, — не хочу.
— Не компанейский ты какой-то.
— Я очень компанейский. Только компания мне сейчас нужна другая.
— Опять, что ль, к дрессировщице?
— К укротительнице.
— А какая, бляха, разница?
— Большая. И потише об этом орите.
Рабочие покачали головами.
— Ты не прав, циклоп. Тебе мужики выпить предлагают, а ты с бабой пить идешь. С бабой не пить надо, с бабой надо…
— Вас забыл спросить, чего мне надо. Расступитесь, теоретики.
Я двинулся дальше по коридору, свернул и постучал в дверь гримерки.
— Заходи, солнышко, — певуче ответил Люсьенин голосок.
Солнышко вошло. Люсьена стояла, положив руку на спинку кресла. На ней снова был японский халат, на сей раз нежно-абрикосового цвета, расшитый белыми птицами. На гримерном столике стояли две вазы с моими букетами — вчерашним из пяти багровых роз и сегодняшним из семи алых.
— До чего же ты красива, — сказал я.
— А ты и в самом деле похож на солнышко, — улыбнулась она. — Лучи во все стороны и пятно под глазом.
— Тогда держи эликсир из протуберанцев. — Я достал из сумки бутылку и поставил на столик рядом с вазами.
Люсьена снова улыбнулась, затем нахмурилась.
— Мне не нравится, что ты на меня тратишься, — сказала она. — Каждый день розы, коньяк.
— Тебе бы понравилось, если б я пришел с пустыми руками?
— Мне бы понравилось, если б ты не ввязывался в нелепые ситуации. Откуда этот синяк под глазом?
— Ударился о стрелу подъемного крана.
— Что?
— Шел к тебе с цветами, подпрыгнул от радости до небес, а тут этот кран на полпути…
— Руки покажи.
— Они чистые.
— Покажи, кому говорю.
Я протянул ей руки. Она поглядела на покрасневшие костяшки моей правой руки и хмыкнула:
— Молодец. Ты еще и подраться с этим краном успел. Что за ребячество, честное слово. Взрослые мужчины так себя не ведут.
— Странные люди эти взрослые мужчины, — сказал я. — Они не дерутся, не дарят женщинам цветы, не приносят с собой коньяк и вино. Чего еще они не делают?
— Ты сумасшедший, — заявила Люсьена. — И меня сумасшедшей сделал. Знаешь, я еще никогда в жизни не выступала так, как сегодня.
— Это упрек?
— Конечно, дурачок. Иди сюда.
Честно говоря, я не помню, как наш поцелуй разразился всем этим фейерверком — цветными пятнами, которыми поплыла гримерка, наглой мордой луны в окне, ноющими пружинами дивана, глухим рычанием ревнивой леопардихи за стеной и нашей собственной полублаженной невнятицей. За окном начало сереть.
— Слушай, — проговорила Люсьена, — какая же я дура. Ты ведь, наверно, голодный?
— Я всегда голодный, — ответил я.
— Перестань дурачиться. Я тут целое блюдо бутербродов приготовила. Давай поедим. Ты любишь бутерброды?
— Больше всего на свете. Я даже когда в милицию попадаю, первым делом требую блюдо с бутербродами, а только потом адвоката.
Люсьена встала и направилась к журнальному столику. Свет из окна, скользнув по ее коже, приклеился к ней серебристой каймой. Люсьена взяла со столика небольшой поднос, на котором лежали тонко нарезанные бутерброды с колбасой и сыром, и вернулась в постель.