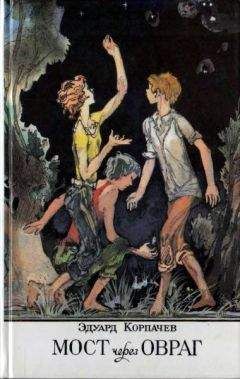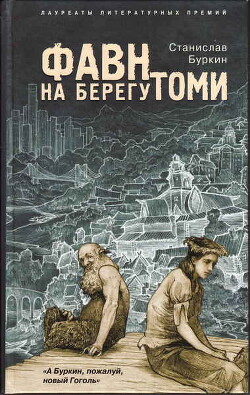До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Но когда она сама хотела взять на горки кого-нибудь, я ей не разрешал и говорил, что только без меня. Почему-то мне было неприятно видеть ее кавалеров.
Иногда девчонки бросали меня и убегали на каток, а я оставался в стороне, говоря, что не умею кататься и что вообще мне неохота. Тогда я садился на лавочку, лизал коньяк из фляжки и смотрел, как они дурачатся на льду, мелькая в плавно вращающейся толпе народа.
Помню кислотный, чем-то напоминающий детство запах наших мокрых от снега штанов и как мы шумно, словно пьяные, вваливались домой, все красные и разгоряченные, так что под глазами пульсировала и расползалась какая-то вулканическая испарина. Галка с Лизкой дрались за ванную или занимали ее надолго вместе, а я оставался куковать под дверью весь прелый, словно тушеная капуста, и просил их, чтобы они не лесбиянничали и поскорее освободили. А они хохотали и специально торчали там полчаса.
Я очень боялся, что Галя залетит, — потому что иногда мы были неосторожными, — и пытался предупредить ее на этот счет. Я не хотел бы, чтобы с моим ребенком сделали что-нибудь нехорошее. Но она только смеялась и говорила, что маленький у нас появится только после моего развода с женой. Потом, уже живя в Париже, я узнал, что она действительно беременна, но от кого — я не знал, да и выяснять не было ни смысла, ни возможностей.
В те последние дни в России я очень тяжело прощался с домом. Давила в грудь влюбленность в эту дурочку. Она почти затмила Симу в моем покалеченном сознании. Казалось, сам старый дом не хотел отпускать меня. В нем еще жил дух нашей бабушки, и я думал о том, что вместе с домом из моей жизни уйдет и она. Как-то раз это уже случилось в моей жизни и теперь странно повторялось по другому сценарию. Первый раз это был варварский ремонт. Помню, как первым делом разломали парадную лестницу с тонкой балюстрадой, сварили на ее месте железную и залили углубления в ступеньках раствором с белыми камушками. Когда лестницу отполировали и покрасили, наша прихожая стала походить на современный гараж, и потребовалось лет десять, чтобы я к ней привык. Когда добрались до спрятанной комнаты, где я когда-то нашел рогатый заклеенный пластырем шкаф, то все старые вещи побросали через окно в грузовик и увезли на свалку.
Все это походило на убийство последнего мамонта или на разорение древнего города варварами. Рабочие пили пиво, ругались матом, выбивали ногами старинные перила, резные наличники и косяки с нацарапанными метками нашего с Лизкой возрастания — полвершка, два вершка, три вершка.
Бабушка принимала все это героически. Она запиралась в своей комнате, почти не выходила из нее, а иногда даже делала кофе и бутерброды для варваров. Это было в тот год, когда от нас ушла Сима. Ремонт, как всегда, затягивался, а я не желал во всем этом участвовать и много времени торчал у друзей или просто слонялся по городу. Я утешался мыслью о том, что нашему дому еще повезло, потому что некоторые резные особняки в городе сожгли и построили на их месте новые кирпичные здания.
Как это было странно. Странно и неправильно. Я думал о том, что происходит с привидениями, когда дом разрушается. Может быть, они получают долгожданное освобождение и вечный покой? Или, наоборот, превращаются в бездомных скитальцев, становясь сиротливыми обитателями трущоб и подворотен? Жаль привидений. Ведь тогда, когда я болел корью, я сам почти что стал в этом доме привидением.
Я часто сетовал на ремонт бабушке, но она только вздыхала и говорила, что, может быть, так надо, если никому уже не нужен старый дом, его легенды и никто уже не помнит всех тех тайн и историй. Ба, но ведь ты не этим руководствовалась той ночью, когда уснула под снегопадом с настежь открытым окном в твоей крохотной комнате? Ведь нам или, по крайней мере, мне так нужны все твои легенды и истории. И я обещаю, что никогда не забуду ни одну из них.
Это случилось утром двадцатого апреля, в пасхальные дни. Ее нашли замерзшей намертво. Помню, что в комнате было скорее свежо, чем холодно. Она лежала, уютно свернувшись клубочком, как хоронили когда-то в курганах древности. Скорее всего, просто уснула, когда проветривала перед сном комнату.
Священник в храме во время отпевания говорил, что наша бабушка чуть ли не стала святой, так как помереть на Пасху это огромное счастье и что преставившихся в эти дни бог сразу принимает в рай, — очевидно, чтобы не омрачать светлого праздника. Так что не так уж, может быть, и плохо, что она именно тогда преставилась. По крайней мере, она у нас не лежала. Тяжело, когда старики лежат.
Единственное, о чем не жалею, так это о том, что провел с ней напоследок столько бесценного времени. Родители тогда очень за меня испугались и поспешили отправить меня по семейному обмену в Испанию, а там я познакомился с Матильдой и Мерседес, но это уже, как говорится, совсем другая история.
Часть III
Семейство Аматле
Глава седьмая
Мимозы Эцио
1
Замигало табло «пристегнуть ремни», самолет окунулся во мглу, все ребята приникли к окнам, по три головы на каждое, облака рассеялись, и мы увидели голубое, бледно-зеленеющее у берега море и скалистые красные утесы над белыми пляжами. Потом самолет лег на крыло и начал кружить, снижаясь. Мы летели и видели похожие на кочки горы, ущелья со змеистыми реками под высокими арками изящных виадуков. Но вот быстро поплыли автострады, веселые пальмы, белые дома, рыжие крыши и ярко-голубые бассейны во дворах.
На выходе из терминала в зале аэропорта, где мы получали чемоданы, нас ожидало нечто шумное и вроде как трогательное. Это было похоже на встречу родителями детей из Саласпилса. Голосистые испанские семейства, преимущественно женщины, отгороженные от сиротливых пришельцев красной лентой, улюлюкали и хлопали в ладоши, в предвкушении узнать в толпе русских бедняжек своего нового ангелочка, которого до этого они видели только на фотографии, присланной агентством из России. Наконец меня сцапало и засосало в свои смуглорукие объятия одно их наиболее благовидных семейств. Благовидных хотя бы потому, что шесть рук из шести были женскими. Стало быть, бабушка, мамаша и ее семнадцатилетняя цыпочка, — заключил во мне бес, и я успешно влился в роль смущенного и во всех отношениях обаятельного мальчугана.
— Какой милашка! Вы только посмотрите на него! Да это же ангел во плоти! — трепали меня за плечи и уши, щипали за щеки (верно, чтобы за мой же счет убедиться, что я не сновидение) и лохматили с большим трудом уложенные мамой в Шереметьеве волосы. И все-таки я был безумно доволен таким приемом трех испанских поколений.
На улице мой энтузиазм несколько купировался, и не потому, что в моем родном городе улица, ведущая на центральное кладбище, называется улицей Энтузиастов, а потому, что я увидел смуглого седовласого сеньора, улыбчиво ожидавшего меня у раскрытой задней дверцы семейного микроавтобуса, из которого, высунув длиннющий розовый язык, на меня бездумно смотрела громадных размеров розоватая морда бультерьера. Первое, что я подумал, глядя на эту крупную белую узкоглазенькую тварь, так это то, что, похоже, судьба совершила большую ошибку и мне нужно срочно все исправить, бросившись обратно в терминал на пункт паспортного контроля. Под огромной крысиной головой псины торчали маленькие жилистые передние лапы. Собака хрипло залаяла, демонстрируя мне свои пятнистые десны и цепкие акульи зубки.
— Не беспокойся, не бойся, — принялись меня успокаивать женщины. — Это наш крысеночек Кока. Она не кусается.
— Бглоф! — мрачно подтвердил крысеночек и завилял мускулистым коротеньким хвостом.
— А теперь познакомься, — указала женщина на невысокого толстяка с косичкой, — эта наш папа — Хавьер.
Смущенный дядя протянул мне потную руку и крепко пожал мои жалко скукожившиеся от рукопожатия пальцы.
Пузатую бабушку, которая, несмотря на банную духоту, была в шерстяной синей кофте, звали, если я правильно расслышал, Эльжуэттой. Это была мать Хавьера. По-английски она не говорила, поэтому только гладила меня поминутно по голове и как-то вопросительно и однообразно улыбалась. Красавицу жену Хавьера звали Мигуэлой. Она мне очень понравилась. Высокая суховатая сеньора с копной блестящих черных волос и с удивительно, как бы это сказать, выразительным, что ли, в эротическом смысле ртом. Не менее чудесной и более всего меня подогревшей была молодая Мерседес — ее дочка, как Мигуэла зачем-то сразу предупредила, от первого брака.