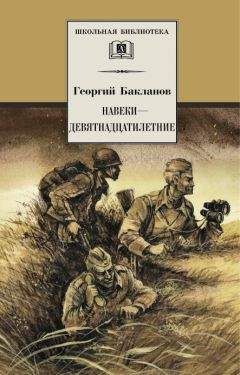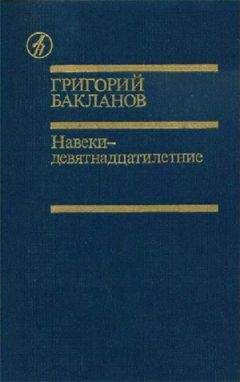Григорий Бакланов - Навеки — девятнадцатилетние
— Комбат, надо дать людям сварить обед. И закашлялся.
— Вы что, больны? — спpосил Гоpодилин. бpезгливо поморщась. Проверенный способ заставить подчинённого замолчать: ткнуть пальцем в его недостатки.
— Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего.
Он стоял, подчёркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твёрдо. И видел, что не отменит Горо-дилин приказания. Чем неуверенней в себе командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет и приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять.
— Карту достаньте, — сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все было ясно. Третьяков достал карту. И тут комбат не удержался:
— Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы заметить. И ничего.
А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но снизу вверх учить не положено, смолчал Третьяков.
Тем временем Городилин ставил задачу:
— Вот — мы. Вот — противник. Предположительно! Пойдёте в пехоту, узнаете, какая стрелковая часть впереди, связь установите. Задача ясна?
— Задача ясна.
— Выполняйте. Четверых разведчиков возьмёте с собой.
Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошёл рядом. Он все же чувствовал себя неловко.
— Конечно, можно было обед сварить, чего там, — пристыженно за комбата сказал он. Третьяков ничего не ответил, подумал про себя: «То-то ты и молчал». Но не ему переучивать Лаврентьева. Этот всю войну провоевал в противотанковой артиллерии, в гиблых сорокапятках, попал после ранения к ним в тяжёлый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком тылу. Он не станет возражать комбату.
Перебрели лощину. Сюда смело снег ветрами, подтаявший, он то пружинил упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как будто все в копоти, перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел. Где-то слева глухо, отдалённо слышалась стрельба. Авиация не летала: при такой видимости отсиживаются лётчики на аэродромах, играют в домино со скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.
На гребне, в реденьких кустах легли оглядеться. Закурили. Сколько ни вглядывался Третьяков воспалёнными от простуды глазами, нигде поблизости пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле, теряющаяся в испарениях сырая даль.
Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл горло.
— Снегу поешьте, — посоветовал Обухов.
— Скажешь тоже!
Третьяков глотал тёплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.
— Гляди! — показал он Обухову. Над кустом, над мокрыми, тускло блестевшими голыми ветками толклась в воздухе мошкара.
— Ожили, тепло чуют, — сказал Обухов. — Снег вон уже весной пахнет.
— Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложило все.
Они говорили приглушёнными голосами, все время прислушиваясь. Обухов раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замёрзшую зеленой траву, пучком, как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков всем своим воспалённым горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильней, потягивало тело и ноги.
— На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант? — спросил Обухов строго. — Похоже, что пехоты нет впереди.
— Похоже. — Третьяков встал первым. Они отошли шагов тридцать, и затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку, махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в тёмных своих шинелях они чётко виднелись на снегу; подпустят немцы близко и положат всех четверых.
Из колышущейся, редеющей пелены проступал прошлогодний тёмный стог сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом пулемёт… Но никаких следов не было вокруг. Подошли.
— У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант. — И Обухов охотно присаживался спиной под стог.
— Хватит спину греть, пошли!
— Как раз только увезли вас…
— После войны расскажешь!
И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли, когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда засверкало, понеслись к ним трассы пуль; немцы и днём били трассирующими. Они уже лежали на снегу, а пулемёт все не успокаивался, стучал над ними. Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать огонь ещё раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом ударил миномёт. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед пулемётчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.
— Я говорил, пехоты нет впереди! — повеселев от близкой опасности, хвастался Обухов.
Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата:
— Дураки немцы, могли нас подпустить. У него в груди отлегло и вся простуда куда-то девалась.
— Вот погодите, жиманут немцы Оттуда, — пообещал Обухов, будто радуясь.
— Если есть чем.
— У него есть!
Обратно шли веселей. И путь показался короче. На огневых позициях ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова переспрашивал: «А наша, наша пехота где?» И опять заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог принять, что их батарея, тяжёлые их пушки, стоят здесь без всякого прикрытия, почти без снарядов, а впереди — немцы.
— Давайте, комбат, мы левей пойдём, узнаем, кто там? — предложил Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:
— Вы чем советы подавать… Советчики!
Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало ничего.
Земля, промёрзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели, вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла спина, временами он не мог унять дрожь.
Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжёлое дыхание нескольких человек: кто-то шёл к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжёлое дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых. Шли по связи. На полголовы выше других — Городилин, кто-то малорослый рядом с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое разведчиков сопровождали их.