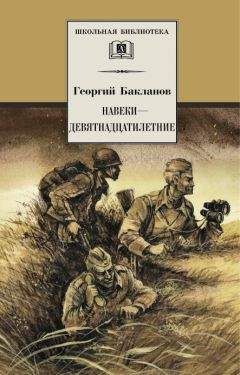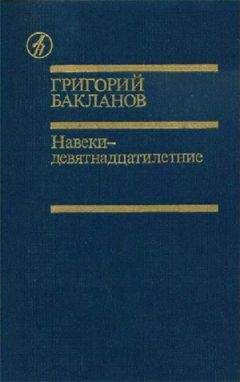Григорий Бакланов - Навеки — девятнадцатилетние
ГЛАВА ХХIII
В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими голосами скликали детишек, лезли на подножки, проводники били их по рукам: — Куда? Мест нет!
— Володя, Володя! В этот вагон! — кричала Саша. Ей тоже передалась вокзальная паника. Проводница грудью напёрла на него:
— Полно, не видишь?
Сверху перевешивались из тамбура, кричали:
— Лейтенант, сколько стоим?
Он стряхнул с погона лямку вещмешка, над головой проводницы кинул вещмешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ, толкали их.
— Я напишу, Сашенька. Как получу номер полевой почты, сразу напишу.
И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу плечом.
Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у неё перед глазами, в какой-то момент она потеряла его.
— Саша!
Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял её, поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали, она отталкивала его от себя:
— Володя, скорей!.. Опоздаешь!
Поезд уже разгонялся. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все ещё устремлённые к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний раз и — не стало её, исчезла. Вкус её слез остался на губах.
Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь, захлопнула железную дверь с закопчённым стеклом. Стало глухо. Кто-то передал вещмешок.
— Из госпиталя, лейтенант?
Третьяков внимательно посмотрел на говорившего:
— Из госпиталя.
— Долго лежал?
Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл доходил поздней: Саша была перед глазами.
— Долго. С самой осени. И достал из кармана кисет:
— Газетка есть у кого?
Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет по рукам: вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий, резиновый: отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом. Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый, хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты: Старых и Атраковский.
Обойдя круг — каждый одобрительно разглядывал, — кисет вернулся к нему. Задымили все враз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колёса под полом, потряхивало всех вместе. А Саша идёт сейчас домой, он видел, как она идёт одна.
Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты перемигивались за её спиной.
Докурили. Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шёл по проходу, качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных полках — везде лежали, сидели тесно, все было занято ещё с начала войны. И на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги, он переступал через них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба отопления, увидел место на узкой, для багажа полке. Закинул туда вещмешок, влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться. Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель, расстелил её под собой, мешок подложил под голову. Ну, все. А ночью пристегнуться ремнём к трубе отопления — и не свалишься, можно спать.
Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал, мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно: это за окном, внизу мелькало что-то, заслоняя солнце; поезд — шёл быстро.
В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал.
Проснулся — светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит каждую дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастёрки, вытер потную со сна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем: теперь он уже далеко. И ничего не изменишь.
Он осторожно спустился вниз, пошёл по вагону, рукой придерживаясь за полки; они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали, ели, мгновенные выражения лиц возникали, пока он шёл.
В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось по краю снежной равнины красное солнце. Через закопчённое стекло тамбур насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой — на железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь, — женщина поила двоих детей, от губ к губам совала жестяную кружку. Она глянула на него испуганно — не прогонит ли? — заметила, что он, достав уже кисет, не решается закурить, обрадовалась:
— Курите! Они привыкши.
Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у обоих.
— Они привыкши, — слабым для жалостливости голосом обратил на себя внимание старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его: бороду и шапку среди узлов. Он понял, дал закурить.
— Чего на него табак тратить! — говорила женщина, похорошев от улыбки. — Зря только переводит.
Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках: им надо было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это. Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой затяжки все посматривал на цигарку в кулаке: сколько осталось.
А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-лётчик и молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала виражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице — восторг и ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке, срываясь и цепляясь за неё, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как сказать капитану, чтоб женщина не заметила.
Со свёрнутым флажком в руке вошла проводница; потянуло запахом уборной из вагона. Приближалась какая-то станция.
— Их бы в вагон взять, — тихо сказал Третьяков, указав глазами на детей, на обмётанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой:
— Что вы, нам тут хорошо! Чего лучше! Проводница разглаживала ладонью свёрнутый, чёрный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал тамбур. Чётко были видны у закопчённого стекла двое: молодая женщина держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищённо смотрела на капитана.