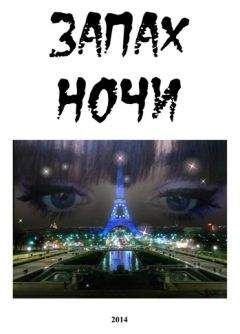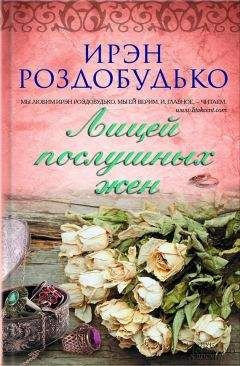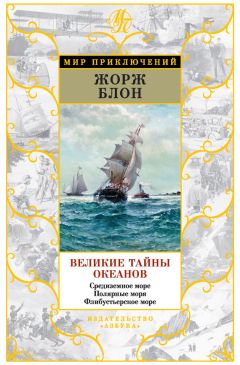Ирэн Роздобудько - Двенадцать. Увядшие цветы выбрасывают (сборник)
Обитель, в которой я сейчас нахожусь, имеет приличное и даже солидное название – «Дом творчества для одиноких актеров театра и кино». Медная табличка с таким названием висит над нашим парадным входом, а рядом еще и нарисован голубь с пальмовой ветвью в клюве. Такой вот юмор. Будто бы он не мог принести эту чертову ветку раньше, а только теперь, практически – на могилу надежд, в этот приют. Если бы художник знал, для кого рисует, изобразил бы престарелого Нарцисса – символ тщеславия. О, таких «нарциссов» тут предостаточно!
Этот дом – двухэтажный, от центрального зала (его называют по-разному – «актовый», «красный уголок») расходятся два крыла с комнатами. Дом стоит в чудесном парке, а дальше, за витиеватой оградой и трассой, тянется сосновый бор. Чудесное место! Воздух и природа замечательны…
Некогда это заведение имело солидный статус и было не просто живодерней для убогих, как, например, другие подобные учреждения, а достаточно «хлебным» местечком, в которое загодя записывались дальновидные «одинокие звезды театра и кино». Даже те из них, кто имел семью. Записывались задолго до старости, так, на всякий случай – а вдруг захочется отдохнуть пару неделек на природе, на дармовых харчах…
Кто-то мечтал отоспаться вдалеке от столицы, кто-то – сбежать от надоевшей «половины», кто-то надеялся встретить тут единомышленников и проводить вечера за преферансом в хорошей компании… Но чаще всего – гораздо позже – их привозили сюда дальние родственники с заботливой формулировкой: «После ремонта в квартире мы тебя сразу же заберем!»
Но никто, поверьте мне, никто из них не предполагал, что это – навсегда. Мышеловка открывается только раз.
Смешно наблюдать, как первые недели расфуфыренные мадам и набриолиненные (по давней привычке) мсье выходят к ужину в платьях и костюмах с «бабочками». Как они называют этот приют «богемою» и, подставляя к уху сморщенные ладошки, говорят «о высоком», сыплют именами, раздувают щеки, потрясают друг перед другом старыми афишами, заказывают на ужин «ананасы в шампанском», капризничают и ругают нянечек. До тех пор пока не услышат вот это самое – «говно собачье» – в свой адрес. Тогда они начинают звонить во все инстанции, включая и родственников, которые «делают ремонт», пишут письма «самому министру культуры» и два дня мужественно отказываются от порции манной каши. А потом… Потом выходят к обеду в байковых халатах и тапочках на босу ногу. И стараются не смотреть друг другу в глаза. И только самые ехидные из «нарциссов»-старожилов могут спросить: «Ну как, ваши родственники уже сделали ремонтик? Что-то долго делают…»
Именно потому я и не выхожу к общему столу. Даже в те праздничные дни, когда приезжают спонсоры, дети-«тимуровцы» (или как там их теперь называют?) или другие благотворители со своими подарками. Я еще не впала в маразм, чтобы стоять в очереди за дармовыми леденцами! Хотя в эти дни (обычно под Новый год, на Восьмое марта или в День Победы) жители Дома снова надевают платья и костюмы…
Иногда поздно вечером я незаметно выползаю в холл посмотреть телевизор – новости или какой-нибудь ретроспективный фильм для «тех, кто не спит» – старый мусор, которым заполняют ночной эфир.
Однажды и услышала из темноты, с первого ряда кресел:
– Эдит Береш. Это ж Эдит Береш! Наша землячка, между прочим… Наверное, уже где-то в Америке умерла… Редкостной красоты была женщина.
* * *Тогда я впервые осмелилась сесть перед зеркалом. Вообще, в зеркало я стараюсь не смотреть. Отучила себя от этой дурной привычки, едва мне перевалило за пятьдесят. Но вначале возник этот запах…
Не помогали никакие духи, а я в них хорошо разбираюсь. Наверное, именно этот запах, который, уверена, слышала только я, и испортил всю мою дальнейшую карьеру. Ведь можно было б еще играть и играть. С моей внешностью я б долго могла считаться «женщиной бальзаковского возраста» – грим сейчас не тот, что был когда-то, искусство макияжа и пластическая хирургия дошли до таких высот, которых и самому Господу Богу не осилить. Но запах! Я всегда очень дотошно относилась к запахам. Когда впервые услышала его, подумала, что где-то рядом стоит букет с увядшими цветами, потом выглянула в окно – не жгут ли там листья? Но была зима.
Может быть, я дотронулась до старых газет? Я обнюхала свои ладони. Как раз в то время я капнула на запястье свои любимые «Шанель № 5»…
И вот сквозь этот аромат, сквозь шелк моего нового платья от портнихи, которая шила только для жен государственных чиновников, сквозь кружево французского белья, которое мне регулярно посылал мой тогдашний приятель-атташе, сквозь саму кожу – такую нежно-розовую, ухоженную кремами и вынянченную личной косметичкой, я услышала этот страшный, отвратительный, невозможный запах. Он будто бы сказал мне: «Крепись – это конец. Отныне я буду сопровождать тебя повсюду… Но не бойся: пока меня слышишь только ты…» Но это меня не успокоило.
Я привыкла быть всегда честной только перед одним человеком на свете – перед самой собой. Других еще можно было обмануть. Красиво – со сцены, просто – в быту. Но то, что составляло мое «я», требовало полной и безжалостной откровенности.
О, я могла заказать шикарный парик, удалить пару ребер и голубоватые сосуды на ногах, вставить фарфоровые зубы, нарастить ногти и до ста лет притворятся, что родилась в туфлях на десятисантиметровых каблуках, петь, как Марлен Дитрих (у меня это неплохо получалось), и говорить с придыханием. Есть такие борцы. Такие, как Люся. Люся Г. – моя младшенькая коллега и почти землячка – из славного Харькова. Когда выпадает возможность посмотреть на нее в каком-нибудь «Голубом огоньке» – я смеюсь и плачу. Мне нравятся ее полупрозрачные наряды, парики, каблучки, меховые горжетки, новое, сто раз перекроенное лицо с растянутыми к вискам глазами… Но мне иногда очень хочется позвонить в Москву и спросить прямо и безжалостно: «Люся, ты тоже слышишь этот запах?» Уверена, она бы меня прекрасно поняла…
Итак, я села перед зеркалом. Обезьянье личико хитрыми глазками посмотрело на меня оттуда. Нужно иметь сумасшедшее мужество, чтобы созерцать такую гадость! Только глаза, пожалуй, еще не утратили своего естественного цвета, выражения и даже блеска. Но со временем исчезнет и это. В конце концов, я давно смирилась. А что еще делать?..
Вокруг этого зеркала налеплены фотографии. Да и вообще, комната напоминает гримуборную – так, наверное, задумано дирекцией Дома. Чтобы мы чувствовали себя в своей тарелке. Даже туалетный столик имеет форму театрального трельяжа. На нем у меня стоят разные приятные мелочи – статуэтки с отбитыми носами, тюбики с помадой, которая давно прогоркла, сосновые шишечки, собранные в то время, когда я еще выходила во двор. Фотографии я налепила на стену сама, чтобы было на чем глаз остановить. Особенно ночью, когда я не сплю.
А еще для того, чтобы не забыть, как выглядела эта сука Леда!
Глава вторая
Стефка
«Недавно я поняла, что создана для ВСЕХ мужчин – для всех, без разбору (конечно, кроме тех, кто ходит в несвежих носках!). И в этом открытии не было ничего непристойного или разрушительного. Любовь – то, что не должно исходить из головы, – она существует на уровне груди (но не в сердце, а где-нибудь посередине, там, где, как говорится, находится 21 грамм души) и немного ниже желудка… То есть там, где всегда болит больше. Голова – враг любви. Ми слишком много анализируем. А звери находят друг друга по запаху. Если бы мы жили так же, как звери, на свете не было б несчастных людей! Я это поняла после того, как мой муж остался в Америке. Поцеловал на прощанье, заверил, что «не может без меня жить», что «будет считать дни до возвращения» и… остался. Значит, выжил…
Вначале, примерно за год до этого знаменательного события, я провалилась на третьем туре в театральный институт. А развод стал еще одним незабываемым событием в моей жизни.
Для очередных штурмов любимого вуза у меня оставалось (по возрастной категории) еще пару лет, а для «большой и чистой» любви – вечность. Но это второе на самом деле волнует меня меньше всего. Особенно после вчерашнего, когда я и поняла то, о чем уже сказала выше. И об этом, пожалуй, следует рассказать подробнее…
Во время так называемого брака – раннего и, наверное, глупого – я превратилась в каменную статую. Такую, которая выходит к Дон Жуану в последнем акте «Каменного гостя». Бывают, знаете ли, такие мужики, которые способны в рекордные сроки превратить в руину и шестнадцатилетнюю. А мне уже двадцать три! То, что во мне светилось, угасло так быстро, что, казалось, я живу за пуленепробиваемым стеклом и наблюдаю жизнь, как рыба, посаженная в аквариум. Так было до вчерашнего дня. Когда я поняла, что на НИХ, собственно, и не надо смотреть. Ведь все, что ими руководит, находится намного ниже глаз…