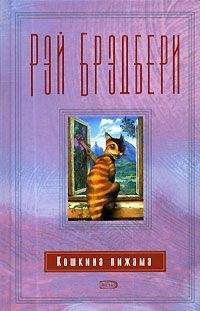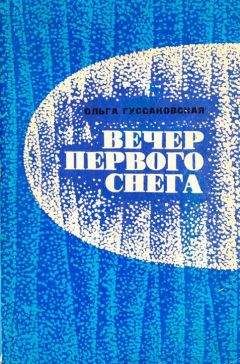Вера Галактионова - На острове Буяне
– Да мой бы вернулся! – вставила поскорей Бронислава. – Супружник законный. Пускай бы ему путь в города отрезаный был!
– Да водой бы мы ото всех опять и отгородилися! От агитаторов-то от разных… Жили бы, как до всяких времён.
– А что? Вот как наплачемся бабьим всем Буяном посильней, так оно само и случится! – пообещала Бронислава со смехом, отирая полотенцем мокрые щёки. – Отгородимся! Напрочь, Тай.
Потом они долго сидели, и пели на два грустных голоса, и раскачивались потихоньку, держась за края общего полотенца:
<s>«Развяжите мои кры-ы-ылья…
<s>Дайте вволю полета-а-ать…
<s>Я заброшенную до-о-олю…
<s>Полечу свою иска-а-ать…
<s>Полечу в страну родну-у-ую!..
<s>Там закончу свой полё-о-от…
<s>Расспрошу про мать родну-у-ую…
<s>Как она теперь живёт…»
[[[* * *]]]
Тяжёлые ветви скрежетали сверху по металлу, царапали и хлестали оконные стёкла. Маленький жёлтый автобус на лесной извилистой дороге подскакивал и громыхал так, словно был увешен снаружи пустыми консервными банками, кастрюлями и сковородами. И путников, вцепившихся в узлы, сумки и чемоданы, подкидывала вверх с вещами, мотала из стороны в сторону, сбрасывала с сидений и валила друг на друга жестокая дорожная тряска.
Кеша, взлетая вместе со всеми, силился сообщить водителю, что тот везёт не дрова. Однако только нечленораздельное, сердитое «моп-поп!..» вырывалось у него сквозь стиснутые зубы.
Но уже через три часа, оглушительно стреляя и кренясь, старый автобус взвыл – и выскочил всё же в решительном рывке на грейдер. Оставив в лощине сизые клубы дыма, он пошёл по слабо наезженному прямому пути, дрожа мелко, как в лихорадке.
Кеша вздохнул облегчённо. И наскоро поругал женщину, мелко трясущуюся рядом:
– С какой стати вы всё время водружали на моё плечо десятки килограммов вашего роскошного тела? Держите свои формы при себе. Безобразие!
Устроившись поудобней, он заснул через минуту.
Бесчисленная толпа людей с клетчатыми китайскими сумками – городскими, из дешёвого полиэтилена – переминалась в нерешительности на невспаханном, туманном поле. И в тряском автобусном сне расплывчатый Хрумкин, хлопая широкими голенищами кирзовых сапог, сразу же повёл народ походкой командора к каким-то очередным светлым вершинам всеобщего счастья. Но Кеша подозревал во сне: путь этот хорошо сочетался с тайным, личным, невиданным обогащением избранных – через безграничную власть над прочими, неизбранными. И, бегущий за Хрумкиным след в след, он не хотел отставать от него ни за что на свете. Большую резвость ему придавал, правда, весьма мелкий расчёт: если ты движешься к этим несуществующим вершинам, мороча головы всему человечеству, рядом с вдохновителем движения, то по пути непременно попадёшь на дармовую пьянку.
Влажный пожухлый бурьян хлестал по ногам идущих. Невспаханное поле цеплялось за одежду колючим чертополохом, кололось татарником. И утомлённый народ отстал вскоре – он затерялся в туманном поле со своей поклажей далеко позади. Кеша дёрнул Хрумкина за рукав и указал на дальнюю и давно не нужную никому межу:
– Я обнаружил отщепенцев! Твои подчинённые бессовестно уклоняются от предписанного им, западного пути! Безобразие…
И их, двоих, быстро понесла к меже какая-то невидимая сила.
Люди с клетчатыми сумками сидели там, в сыром бурьяне. Они глядели в серое небо, запрокинув серые усталые лица, будто ждали пришествия солнца. А их двоих, приближающихся неумолимо, не замечали вовсе.
– Может быть, они не понимают своего тяжёлого неизбежного счастья? Может быть, они не хотят прогресса? – спросил Кеша Хрумкина, остановившись в замешательстве. – Как ты считаешь?
– Я считаю – до шести, – внятно ответил тот. – Всегда – до шести!
– Сильно подозреваю, со свойственной мне проницательностью, что они тоскуют по утерянному социалистическому раю, – сказал Кеша. – Уйдём же отсюда! Им, отсталым, с нами не по пути.
– Сделайте милость… Сделайте милость… – завздыхало всё вокруг, хотя усталые люди оставались недвижными. – Провалитесь в свою преисподнюю… В преисподнюю…
И они вдвоём оказались вдруг в неприбранной холостяцкой хрумкинской квартире. Кеша узнал старинную колченогую мебель, источенную злым жучком, неустанно превращающим чьё-то изысканное, славное прошлое в мучнистую, скучную пыль. На потрескавшемся знакомом портрете обнаружил он и Хрумкина-старшего. Но почему-то заподозрил во сне, что тот никогда не был высокопоставленным Фрумкиным, как утверждал флейтист-внук во время своего пьяного бахвальства. И вообще – желание капризничать, требовать, подозревать и обвинять овладевало теперь Кешей неодолимо.
Волосы Хрумкина-патриарха торчали на портрете двумя небольшими рогами. И оттого он казался Кеше вылитым Вельзевулом. Меж рогами проступали на тёмно-багровом фоне странные водянистые знаки – в виде циркулей и мастерков.
– Хрумкин! А нет ли у тебя чего-нибудь почитать? По масонству? – изящно поддел Кеша флейтиста, отвернувшись от Вельзевула. – Мне ребята около Пегаски рассказывали про это что-то забавное. Что-то пресловутое такое… Но я же должен изучить всё сам! Досконально. Пока не пришли девицы… У меня как раз есть полчаса. Сам понимаешь, когда сюда завалятся расфуфыренные грудастые «кадры», нам будет не до изучения. Я же всё-таки бежал за тобой, потому что ты звал меня на «кадры»!
– Поздно. Изучать, – с присвистом ответил флейтист и принялся сосредоточенно вычищать грязь из-под ногтей серебряной вилкой, конфискованной у кого-то в начале прошлого века.
– Абсолютно поздно! – согласился с внуком портрет, шевельнув волосяными рогами как настоящими.
«Почему?» – хотел было спросить Кеша, однако не успел. Портрет, расхохотавшись, начал отвечать загодя.
– Потому что никому и ничего уже не изменить! Никогда! Историю вспять не раскручивают.
Этот изображённый маслом предок определённо наглел, и Кеша сощурился, обдумывая, каким бы доводом его ошарашить. Ветер гулял в неприбранной комнате. Глухо и торжествующе хохотал портрет над кривоногим столом. Древесная пыль была похожа на рассыпанную по полу муку.
– А если я придумаю программу антимасонства? – подбоченился Кеша, надменно вскинув подбородок. – Стоит мне только собрать хороших экономистов, и пресловутые масоны будут обыграны. Без сомненья.
– Собери! – одобрил идею флейтист. – Создай! А я эту программу возглавлю. Непременно. Сам. Лично.
И Кеша почувствовал приступ безграничной любви к младшему Хрумкину – такому незамысловатому, но бесконечно отзывчивому:
– Значит, разрешаешь? Ты… Ты – настоящий друг. Кто, кроме тебя, пускал меня переночевать? Скажи?! Кто ещё слушал меня, постигая загадку моей великой сумбурной души холодными ночами, по ходу жизни?.. Ты. Ты – великий, вечный мой друг, а вовсе не косая бездарность. И твоему, именно твоему ясному взору открыты истинные пути, по ходу жизни. Веди! Я всегда с тобой!
Он растрогался и поцеловал флейтисту руку с вычищенными ногтями. Вилка упала на стол и зазвенела.
– Тьфу! – плюнул вдруг на них с портрета Хрумкин-патриарх и отвернулся, сменив анфас на брезгливый и однорогий профиль. – Вы измельчали. Внуки революции, вы измельчали до размера древесных жучков. Вы только источили конфискованное нами.
Хрумкин-флейтист открыл от удивления рот с чёрной дырою на месте зуба. А потом возмутился.
– Ах, так?! – закричал он, затопал перед портретом. – Действительно, вы откусывали крупные куски. Вы были крупнее, но зато нас теперь стало очень много! В сумме мы истачиваем, изгрызаем и перемалываем всё вокруг себя в гораздо больших количествах, чем вы!
Но Кеше вдруг резко не понравились обобщения – все эти многозначительные «вы», «мы», и он постарался отмежеваться от обоих Хрумкиных сразу. На всякий случай.
– Я, вообще-то, тут мимоходом. И, если у вас нет никаких доброкачественных девушек и вин… Пятизвёздочных девушек и продажных вин… Пойду я, – попятился Кеша к двери, раскланиваясь на ходу. – Я везде – мимоходом. И потому я свободен. От всего, в чём нет для меня хотя бы мельчайшей выгоды.
– А куда тебе деться от нас? – Хрумкин на портрете принял прежний, двурогий, вид. – Ибо некуда деться от нас человеку без…
– Без родины в душе? – глумясь и кривляясь, подсказал флейтист.
– Зачем же так ставить вопрос? – донеслось с портрета. – Если у человека нет родины в душе, то и самой души у него – нет. Он – наш!
– Да, я существую свободным от условностей! – дерзко подтвердил тогда Кеша. – Да! А что?.. Будет ещё тут всякая рогатая бездарность разоблачать мои лучшие качества.
– Сам по себе никто не существует, – усмехнулся Хрумкин с портрета. – Либо человек со своей, с позволения сказать, родиной – либо он против своей, с позволения сказать, родины. То есть, с нами. Третьего не дано.
– Ну, меня, допустим, подчинить вообще невозможно! – нисколько уже не боялся рогатого портрета Кеша. – Прошу заметить: принадлежащий всем не принадлежит никому в отдельности. Даже родине – одной родине – меня запрячь никогда не удавалось! Особенно, во время осенних и весенних армейских призывов. Я от дедушки ушёл вполне успешно, я от бабушки ушёл, вообще-то, тоже. А свалить от вас – это для меня семечки. Навык есть навык!