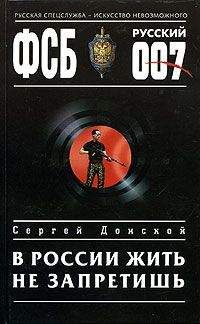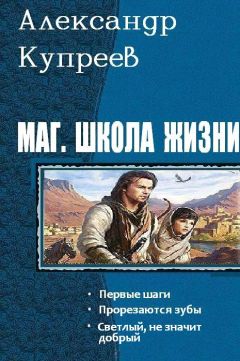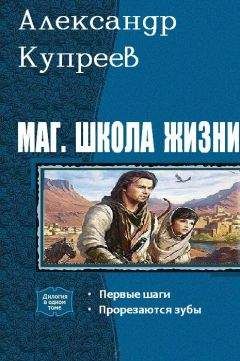Виктория Райхер - Йошкин дом
— А чего она у тебя болит? — спросил он, намыливая раковину.
— Кармелла меня не любит, — доходчиво объяснил ему Хези Таз.
— А… — отреагировал Бухта Бен—Рахман, и продолжил намыливать раковину.
Кто такая Кармелла, знала вся база. Кармелла была бессменной подружкой, безумной страстью и единственной настоящей любовью трепетной души Иехезкеля Таза. Каждый вечер, независимо от погоды, усталости и состава слушателей, Хези Таз разговаривал по телефону с Кармеллой. Он орал на неё грубыми словами, параллельно осыпая такими нежностями, от которых у окружающих слушателей — рядовых Армии Обороны Израиля — краснели уши. Он выяснял с ней отношения часами, столько, сколько позволял распорядок дня и еще кучу времени сверх этого, под одеялом тайком. Он писал ей письма и каждый день отправлял их с армейской почтой. Он ссорился со своей Кармеллой по десять раз в день, и по десять же раз в день мирился. Он прожужжал её именем уши всем служащим базы, кроме разве что командира Иегуды Шварца.
Раз в три недели, по выходным, Кармелла приезжала навестить своего Хези. Она проходила через всю территорию базы, крупная, высокая, большегрудая, с пышными ярко—черными волосами и малиновыми губами наперевес, звеня на ходу сережками, браслетами и негодованием. Свои претензии к любимому она начинала высказывать уже с порога его комнаты — общей, следует заметить, с семью рядовыми, и смежной с еще пятьюдесятью четырьмя рядовыми. Кармелла была вечно чем—нибудь недовольна, при этом одно появление Хези вызывало у неё улыбку на губах, которую она смачно влепляла в любимые губы. Поцеловавшись, Кармелла и Хези уходили из общей комнаты куда—нибудь в кусты, не переставая выяснять отношения на ходу. Подробности этих отношений при желании могла бы знать не только вся Хезина база, но и две соседних, но никто из них не понимал и не желал понимать нюансы сложной любви страстной парочки. Запутанные извилины и изгибы их взаимных упрёков, комплиментов и признаний мог при желании, наверное, понять разве что сержант Иегуда Шварц, в своё время с отличием окончивший сержантские курсы, но именно от него Кармелла с Хези старательно прятались, дабы не навлекать. Остальные солдаты на базе давно отчаялись понять глубину отношений Хези с его подружкой, и только смиренно закатывали глаза, когда из всех углов отдыхающей в выходной день базы до них доносился то мягкий, но нервный Хезин говорок, то резкие и страстные речи Кармеллы.
Раз в месяц, когда солдат отпускали на выходные домой, Хези уезжал с мечтательной улыбкой на устах, а возвращался обычно с синяком под глазом. Знающие люди говорили, что один синяк под глазом — это ерунда, потому что Кармелла после таких выходных обычно щеголяла с двумя.
Все эти ценные сведения прекрасно знал и помнил Бухта Бен—Рахман, поэтому он не спросил, кто такая Кармелла. Он позволил себе дополнительное внеочередное мыслительное усилие, и уточнил:
— А почему ты решил, что Кармелла тебя не любит?
В этом месте Хези Таз стукнулся лбом о немытую пока еще стену и зарыдал. Авирам Бен—Рахман посмотрел на его рыдания, пожал плечами и продолжил своё дело: оттирание уже третьей по счету раковины. Он не знал, что можно сделать с рыдающим Хези Тазом, но очень хотел сделать хоть что—нибудь. Поэтому он вынул из кармана пачку сигарет и протянул фигуре у стены. Хези, не прекращая рыдать, взял сигарету и, всё так же рыдая, закурил. Бухта отобрал назад свою пачку, закурил тоже и грузно осел у стены рядом с Хези.
— Звонит редко, раз! — перечислял тем временем Тази между затяжками и слезами, — когда звонит, о любви ничего не говорит, два! Когда я говорю о любви, недовольно морщится, три!!!
— Откуда ты знаешь, что она морщится — по телефону? — проявил недюжинную смекалку Бен—Рахман.
— Я чувствую, Бухта! Чув—ству—ю! — зашелся в рыданиях Хези. — Она меня больше не любит, Бухта, я тебе говорю, она меня разлюбила! У неё тон другой, у неё интонации другие, она в прошлый вторник сказала «целую» только два раза — здороваясь и прощаясь, а больше «целую» она не сказала ни разу, Бухта!
Бухта Бен—Рахман не был большим знатоком человеческой психики. Но он неоднократно видел Кармеллу, а так же (как и вся база) знал про неё всё от
Хези Таза. Бухта Бен—Рахман не был большим знатоком человеческой психики, но он был стопроцентно убеждён, что если кто—то в целом мире и любит Хези, то это его ненормальная подружка. Бухта не был искушен в сложностях любви, но железно доверял собственным ощущениям. Он точно знал, что Кармелла очень любила Хези Таза.
— Хези, — сказал Бухта, стараясь сформулировать своё знание, не тратя слишком много энергии на слова, — Хези, ты дебил.
— Я знаю, — печально откликнулся Хези.
— Хези, она тебя любит, — выдал Бухта вторую мысль, затягиваясь очередной сигаретой.
— Не любит, — отказался Хези. — Если бы любила, вела бы себя иначе.
— Но, Хези, — откликнулся удивлённый Бен—Рахман, — откуда ты знаешь, как БЫ она себя вела?
— Если бы она меня любила, — мечтательно протянул Хези, — она бы вела себя так, чтобы я это понимал.
Если бы рядовой Бен—Рахман обладал хотя бы десятой долей красноречия своего собеседника, он бы спросил Хези, как может быть, что он не понимает того, что прекрасно понимает вся его база и две соседних. Но Бухта не был оратором. Поэтому он пожал плечами и повторил:
— Ты дебил, Хези.
— Я знаю, — не побаловал разнообразием и Хези. — Но если Кармелла меня не любит, мне незачем жить. Мне так больно, Бухта, так больно, что мне каждую секунду хочется умереть, лишь бы перестало болеть.
— А спросить её ты не можешь? — осенило Бухту, который любил простые решения. — Спросить Кармеллу?
— Что спросить, любит ли она меня?
— Ну да.
— Пробовал. Вчера ночью. Сказала, что любит. Десять раз сказала, что любит. А потом, к концу разговора, перестала говорить.
Хези всхлипнул.
Рядовой Бен—Рахман подозревал, что если бы его заставили десять раз повторить, что он любит, скажем, баранину на углях, то на одиннадцатый раз он бы любил баранину на углях сильно меньше. По крайней мере, был бы сильно меньше расположен говорить про это вслух.
— Хези, — сказал он, собирая последние остатки сил и вставая, чтобы довершить вымывание сияющего уже туалета, — Хези, ты тупой. Ты тупой идиот, Хези, и я не буду в тебя стрелять. Если тебе очень нужно, застрели себя сам. Оружие у нас тут у всех есть — в чем проблема?
— Сам я не могу, — уныло отозвался Хези, — мне страшно… Кроме того, говорят, когда сам в себя стреляешь из автомата, могут быть всякие неприятности. Дёрнешься невовремя, попадёшь не туда, останешься калекой — а я хочу, чтоб наверняка. А тебе я покажу точно, куда стрелять, ты не думай, я знаю, я в школе биологию учил.
Авирам Бен—Рахман не учил биологию в школе. В районной школе города Офаким, где он получал своё весьма неполное среднее образование, было очень мало обязательных предметов, и биология в их число не входила. Кроме того, Авирам Бен—Рахман не хотел ни в кого стрелять. То есть если бы ему предоставили полную свободу действий, он бы подумал, не застрелить ли ему командира Иегуду Шварца — но перспектива даже и полутора лет тюрьмы против двух на базе ему почему—то не нравилась.
— Всё, Хези, — сказал он, выжимая тряпку. — Ты мне классно помог, спасибо тебе большое, а теперь пошли отсюда вон, я сдам эту сраную работу этому сраному командиру, и пойдём обедать.
— Я не хочу обедать, — грустно сказал Хези, — я хочу, чтобы ты сдержал своё обещание Мы же договорились, помнишь? Мы договорились, что я помогу тебе мыть туалет, а ты за это меня застрелишь. Разве не так?
— Не так, — убежденно сказал Бухта Бен—Рахман, моя руки под краном. — Ты предложил мне договориться, но я не согласился. Я всё понимаю, Хези, но ты дебил и я не хочу в тюрьму. Иди трахаться и оставь меня в покое.
На самом деле, рядовой Авирам Бен—Рахман отказывал своему боевому товарищу в можно сказать последней просьбе не только и не столько потому, что боялся тюрьмы. Настоящая причина крылась глубже: дело в том, что у Бухты была мама. Эта мама, коричневого цвета еврейка из Марокко, ходившая пятьдесят лет подряд в одном и том же черном головном платке и неизменном цветастом платье, и оравшая на своих семерых сыновей так, что в домах города Офакима дрожали стёкла, позаботилась о том, чтобы у её детей были четкие представления о том, что можно делать в мире, а чего нельзя. Будучи женщиной необразованной, зато религиозной, мама Бен—Рахман не озаботилась изобретением собственных правил, а прибегла к десяти всем известным заповедям, взятым из той единственной книги, которую она прочла, и то не до конца, за всю свою жизнь. Дети Бен—Рахман дрались на улицах и хулиганили в школе, они плохо учились и все до одного в какой—то момент пробовали курить траву, но каждый из них точно знал, что за нарушение заповеди «не укради» мама лично придёт и оторвёт ему голову. Поэтому дети Бен—Рахман не воровали, никогда. С прелюбодейством было сложнее, потому что в городе Офакиме бытовала слегка скорректированная версия соблюдения данной заповеди, но вот в чем Бухта был уверен точно, это что мама не одобрила бы нарушения заповеди «не убий». Более того, она была бы категорически против. С детства привыкнув считать железные правила своей мамы абсолютно неоспоримыми, Бухта в результате и сам явственно ощущал, что было бы неправильно взять и застрелить Хези Таза, пусть даже и по его собственной просьбе. Он не облекал свои мысли в слова, но точно знал, что стрелять в Хези не будет. Рядовой Бен—Рахман домыл руки, проследил за тем, как Хези аккуратно складывает в углу туалета тряпки, мыла и щетки, и молча вышел из туалета. За ним, уныло перебирая ногами, последовал рядовой Иехезкель Таз.