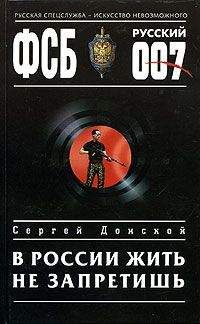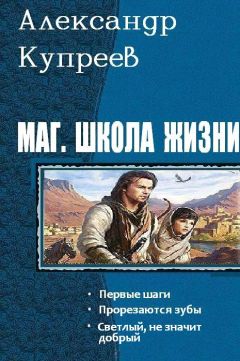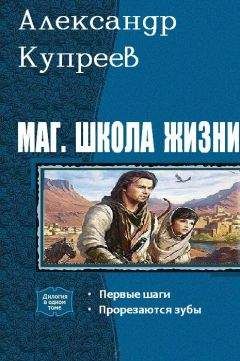Виктория Райхер - Йошкин дом
Через два дня мальчик и Ида встречаются в Тель—Авиве, пытаясь оформить сделку. Мальчик неподражаем. Он опаздывает на встречу на полтора часа, сначала умоляя Иду приехать пораньше, а потом утверждая, что поезд, в котором он ехал, неожиданно встал в пробку. Он долго не может найти здание вокзала, в которое Ида очень вежливо просит его пройти, потому что попасть на перрон без билета она не может. Он восторженно крутит головой, показывает пальцем на все красивые витрины и необычные машины, которые видит перед собой (а в Тель—Авиве немало и того, и другого), и каждые пять минут сообщает Иде, что сделка у них нечестная, потому что они с Эриком дали за машину слишком мало, и надо добавить, потому что они его облапошили, надули, вообще—то он им верит, но добавьте еще денег, а? Не можете? Нет, ну не надо, не добавляйте, я вообще—то знаю, что мы сделали вам огромное одолжение, смотри, смотри, видишь, там собака идёт, белая, я себе точно такую же куплю, как из армии приду. Ида с работы, она встала в шесть часов утра, она отработала полный день, она специально едет через Тель—Авив, чтобы встретить там мальчика, она прождала его полтора часа на улице, ей всё равно, какую собаку он себе купит, придя из армии. Мальчик невыносим, но он почти завораживает её: его невыносимо жалко. У него жуткое произношение, будто каша во рту, он всё время подёргивается и улыбается странной хитро—жалобной улыбкой над абсолютно щенячьим на подбородке пухом, он стреляет глазами направо и налево, он, кажется, боится Иду до смерти и одновременно был бы не прочь проверить, настоящая ли у неё грудь. Он никогда в жизни не был один в Тель—Авиве. Он два с половиной часа тратит на оформление документов, которые должны быть оформлены за пять минут — потому что не понимает ничего и спорит с каждым словом, хотя условия сделки они с папой подписали еще в пятницу. Потом он всё—таки подписывает нужный документ и заполняет анкету. Левой рукой. С ошибками. Ошибки исправляет Ида. Молча. Потом он очень просит проводить его до обратного поезда и посадить прямо в вагон, «потому что иначе я заблужусь». Он передаёт привет Эрику и просит добавить еще пятьдесят шекелей. Куплю ему на прощание воздушный шарик, мрачно думает Ида, доведу до поезда и столкну на рельсы.
Прикол хочешь, спрашивает мальчик вдруг среди всего этого балагана, я две ночи не спал, вообще. Я думал, мне не жалко будет продавать машину, а мне жалко. Я понял, что больше никуда на ней не поеду. Не сердись на меня, я послезавтра в армию ухожу.
Эй, кричит Ида мальчику в уходящую уже спину, эй, а попрощаться?
Пока, он оборачивается и неловко, боком, суёт ей худую ладонь, езжай осторожно.
Ты тоже, говорит она ему и, не выдерживая, поправляет на нём сбившийся полосатый шарф.
* * *
Папа сказал, зачем тебе машина, и мальчик подумал — зачем мне машина? Машина была, но денег не было, давай продадим твою машину, сказал папа, продадим машину, а даньги возьмёшь себе. Много денег. Много денег мальчик хотел. Он хотел водить Мейталь в ресторан, и покупать ей всякие дорогие вещи, и себе тоже, и чтобы они с Мейталь ходили всюду, как богачи в кино, и всё могли купить. А так у него была машина, и Мейталь соглашалась с ним кататься, но не было денег, поэтому, покатавшись, она уходила в кино с Одедом. Папа отдельных денег на бензин не давал, давал карманные деньги, но если их даже все тратить на бензин, слишком далеко всё равно не уедешь. А еще надо ведь себе покупать разное. А еще Мейталь. У Мейталь — юбка, красная, короткая, а к ней — белый свитерок, тоже короткий, такой, что между краем свитерка и поясом юбки еще остаётся место, и там видна полоска голой кожи. Мейталь выше мальчика на чуть—чуть, это потому, что она ходит на больших каблуках, так—то он высокий, выше всех почти в классе, кроме Одеда, да еще вот этот русский — Арик? Эрик? — тоже выше него, но русский уже старый, ему уже лет тридцать должно быть, если не больше, а мальчик ведь будет еще расти. У этого русского красивая жена, не то что даже красивая, но такая, странная немножко. Мейталь тоже странная. Мальчику нравится, когда женщины странные, он тогда не знает, что с ними делать, и это ему тоже почему—то нравится. У Мейталь такая спина, узкая и как будто она на ходу немножко танцует, по этой спине мальчику всё время хочется провести ладонью. Он еще ни разу не проводил. И жене русского Эрика ему тоже хочется провести ладонью, но не по спине, а по груди. Этот русский Эрик высокий, поэтому у него красивая жена. Мальчик тоже будет высокий, и у него тоже будет красивая жена. Папа сказал — зачем тебе машина, ты всё равно в армию уходишь, для чего она будет стоять? Возьми лучше деньги, они тебе до армии как раз пригодятся, и армии тоже. И мальчик согласился, и они дали объявление в газету, сначала никто не откликался, но потом откликнулся этот русский. Мальчик думал, это будет долго — продать машину, а это оказалось быстро, русский с женой приехали, они всего только день поговорили, и уже увезли машину. Вела её почему—то женщина, странный этот русский, почему у него женщина вела машину? Папа никогда не давал своим женщинам садиться за руль своей машины, и мальчик тоже не давал, хотя Мейталь и просила один раз. Он любил свою машину, хотя очень боялся садиться за руль. Каждый раз садился и каждый раз боялся. Он думал — вот, у него будут деньги, и он поедет с Мейталь куда—нибудь гулять. Много денег. Четыре тысячи. Может быть, даже пять.
А потом эта русская увела машину, и высокий Эрик уехал вместе с ней, и мальчик с папой пошли домой, поужинали, потом сидели и телевизор смотрели, и мальчик сказал «ну, я поехал за пиццей», а папа спросил — а на чем ты поедешь за пиццей, и мальчик понял, что за пиццей ехать не на чем, потому что машины у него больше нет. У папы есть, но на папиной машине ехать нельзя, там нет на мальчика страховки, и папа не хочет оформлять. И, значит, мальчик уже не сможет повезти Мейталь гулять, потому что без машины она с ним не пойдет, потому что она пойдет с Одедом. И надо ехать в Тель—Авив на поезде, встречаться там с этой русской, заниматься с ней какими—то бумажками, потом ехать обратно, а вечером можно пойти гулять, и даже будут деньги, но не на чем довезти Мейталь до ресторана, да и сколько раз можно на четыре с половиной тысячи сводить Мейталь в ресторан? Не на всю же его армию хватит, армия — это три года. Мальчик попробовал подсчитать, хватит ли у него денег, чтобы водить в ресторан Мейталь на четыре с половиной тысячи все три года, но у него не получилось, и он плюнул и пошел спать. А спать не смог, не заснул, всё вертелся и думал, что вот если бы ему, например, захотелось ночью томатного сока, то никакого сока не получилось бы, потому что за ним не на чем съездить. Мальчик крутился в постели, и ему всю ночь страшно хотелось томатного сока.
Ехать в поезде было довольно интересно, но мальчик очень боялся, что приедет в Таль—Авив раньше времени и будет стоять там посреди улицы, не зная, что делать. Поэтому он выехал из Хайфы только тогда, когда эта русская позвонила ему и сказала, что она уже стоит в Тель—Авиве на том месте, где они договорились встретиться. Так он был хотя бы уверен, что ему не придётся торчать на улице одному.
И он приехал, они быстро—быстро всё оформили, а в Тель—Авиве столько всего интересного и много красивых машин, у всех там машины, и у этой русской уже тоже есть машина, а у мальчика нет, была, а теперь нет, они всё оформили, и неплохо поговорили, с русской, оказывается, можно говорить, она ничего себе так, не хуже даже Мейталь, но теперь Мейталь уже не будет с ним гулять, и эта русская тоже не будет с ним гулять, потому что у неё есть высокий русский муж, а у мальчика была машина, но теперь её нет. Можно было бы сорить деньгами, но как без машины будешь сорить деньгами, да и с кем, если Мейталь нет, да и надолго ли хватит этих денег? Армия — это три года. Если бы была машина, можно было бы ездить из армии к Мейталь. А теперь нельзя. И за томатным соком ночью нельзя. Эй, а попрощаться, крикнула ему эта русская, и он попрощался с ней, нормально попрощался, как мужчина, сказал «езжай осторожно», это папа всегда всем говорит, и руку пожал, пусть видит, что он умеет делать дела. Он, мужчина, без труда продал машину красивой женщине, попрощался с ней и уехал, не оглянувшись. Может быть, теперь она будет его вспоминать. А он уедет от неё навсегда. Уедет на поезде, потому что машины у него больше нет. Нет. Нет.
Мальчик втиснулся в светлый людный вагон, пошел по нему в глубину, отыскивая свободное место, и заплакал на ходу, по—щенячьи уткнувшись носом в сбившийся полосатый шарф.
ОТ СУМЫ, ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ
Семёнову, моему давнему, верному и любимому другу. Держись, Семёнов. Прорвёмся.
Рядовой Армии Обороны Израиля Авирам Бен—Рахман по прозвищу Бухта сидел на полу в углу и ковырял в носу. Перед самым ковыряемым носом рядового Бен—Рахмана простирался армейский туалет. Туалет был мыт. Соответственно, по мнению рядового Бен—Рахмана, туалет был чист. Но по мнению сержанта роты Иегуды Шварца, которого бойцы, согласно существующей традиции, называли командир Иегуда, туалет чист вовсе не был. Более того. По мнению сержанта роты командира Иегуды, туалет был возмутительно, вызывающе, непотребно грязен. Посему, командир Иегуда выбрал самого любимого солдата своей роты, приказав ему до обеда начисто перемыть туалет. Любимым солдатом командира Иегуды вот уже четыре месяца был рядовой Авирам Бен—Рахман.