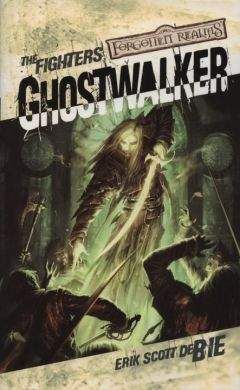Мишель Турнье - Метеоры
Так летят мои мечты, пока мы кружимся, не видя, как пустеют салоны. Потому что серая толпа медленно оттекает к выходам. Это не разгром, не паника, а тайное бегство, предательство, оставляющее нас наедине, с глазу на глаз, телом к телу. «Венская кровь», «Цыганский барон», «Богема», «Роза Юга», весь набор. Вскоре остается только один скрипач, испускающий протяжные рыдания. Потом и скрипач тоже исчезает…
Это было позавчера. Сегодня утром я получил записку: «Я уезжаю, одна, в свадебное путешествие в Венецию. Я пыталась примирить всех — тех, кого люблю, и всех прочих, нравы и обычаи и, наконец, себя. Пирамида оказалось слишком хрупкой. Вы видели результат. Счастье, что вы были рядом. Спасибо. Фабьенна».
От вложенных в письмо филиппинских жемчужин казалось, что конверт обременен близнецами.
* * *Над окончанием лета нависла война. Закончив, при всеобщем попустительстве, уничтожение немецких гомосексуалистов, Гитлер ищет новых жертв. Надо ли уточнять, что грядущая потрясающая схватка гетеросексуалов интересует меня как зрителя, но меня не касается? Разве что в последнем акте, когда Европа, целый мир, будут, по-видимому представлять лишь груду обломков. Тогда наступит время тех, кто разбирает завалы, утильщиков, мусорщиков, тряпичников и прочих представителей отхожего промысла. А до того я буду следить за ходом действий корыстным взглядом, под сенью своей негодности к военной службе, которую я заслужил в призывном возрасте ущемлением грыжи, давным-давно вправленной и забытой.
Иное дело брат Эдуард. Внезапно он просит меня навестить его. Уж он-то — со своей огромной женой, любовницами, бесчисленными детьми, ткацкими фабриками и еще бог знает чем! — прирос к социуму каждым волоском! Насколько я его знаю, в случае войны он захочет драться. Это одновременно логично и абсурдно. Абсурдно в абсолюте. Логично относительно его солидарности с системой. Зачем он хочет меня видеть? Возможно, чтобы заручиться сменой в случае несчастья. Не выйдет! На меня уже сбросили наследие брата Постава, шесть городов с их отбросами. У меня хватило гениальности обратить все это помойное царство в мою пользу и к вящей моей славе. Подобный подвиг в одной и той же жизни дважды не совершают.
Итак, я заскочу в Париж повидать Эдуарда перед тем, как уеду на юг в Мирамас, инспектировать большую марсельскую свалку. Я беру с собой Сэма. После колебаний, оставляю Даниэля. Что бы я с ним делал в те два дня, что я должен провести в Париже? Одиночество у меня настолько закоренелое, что одна мысль о путешествии в компании выбивает меня из седла. Он приедет ко мне в Мирамас. Чтобы придать нашей встрече романтическую ноту, а заодно и несколько подлый предлог: я оставил ему одну серьгу. «Эти серьги твои, — объяснил я ему. — Их стоимость такова, что когда они в паре, тебе не придется работать до конца своих дней. Но каждая в отдельности не стоит почти ничего. Вот, значит, тебе одна, я оставляю себе другую. Ее ты тоже получишь. Позже. Но сначала тебе надо приехать ко мне в Мирамас. Через неделю».
Мы расстались. Надо было мне быть осторожней и не смотреть ему вслед. Эти плечи — узкие и немного сутулые, куртка не по росту, тощий затылок, придавленный гладкой, черной, слишком густой шевелюрой. А потом я представил себе его шею, худую и грязную, и золотую цепочку с образком Богородицы… Снова жалость стиснула мне сердце. Я силой заставил себя не окликнуть его. Увижу ли его еще? Можно ли что-то знать в этой собачьей жизни?
ГЛАВА VIII
Земляника
Поль
Конечно, в развале его брака есть сильная доля моей вины, я и не думаю преуменьшать свою ответственность. И все же следует воздержаться от чисто непарной интерпретации этой драмы, настоящее прочтение которой должно быть близнецовым. С точки зрения единичной — все просто, той простотой, которая не что иное, как ошибка и поверхностный взгляд. Два брата нежно любили друг друга. Появилась женщина. Один из братьев решил на ней жениться. Другой этому воспротивился и коварным маневром сумел изгнать непрошеную гостью. Но ничего тем самым не выиграл, потому что любимый брат тут же покинул его навсегда. Такова наша история, сведенная к двумерному видению непарных существ. Если восстановить ее в стереоскопической правде, эти несколько фактов принимают совершенно другой смысл и вписываются в гораздо более значимое целое.
Я убежден, что у Жана не было никакого призвания к браку. Его союз с Софи был заведомо обречен на неудачу. Тогда почему я воспротивился ему? Почему хотел разрушить план, который в любом случае был неосуществим? Не лучше ли было пустить на самотек и с уверенностью ждать крушения противоестественного союза и возвращения блудного брата? Но это тоже непарное объяснение ситуации. На самом деле мне не пришлось ни разрушать, ни с уверенностью ждать. События необходимо, фатально вытекали из расположения звезд, где места были размечены заранее и роли заранее расписаны. Ничто у нас — я хочу сказать в двойственном мире — не происходит в силу индивидуального решения, внезапного порыва или свободного выбора. Кстати, это поняла и Софи. Она вошла в нашу игру как раз настолько, чтобы оценить фатальность ее механики и констатировать, что у нее нет ни малейшего шанса найти там место.
Кстати, Жан на самом деле не хотел этой свадьбы. Жан-кардажник — человек разобщенности, человек разрыва. Он воспользовался Софи, чтобы разбить то, что связывало и душило его больше всего, — близнецовую ячейку. Планы женитьбы были лишь комедией, которая ввела в заблуждение — и ненадолго — одну Софи. Конечно, комедия продлилась бы дольше, если бы я сам согласился принять в ней участие. Надо было сделать вид, что я не подозреваю о нашей близнецовости, и обращаться с Жаном как с непарным существом. Признаю, я отверг эти детские игры. Они были тщетны. Они были с самого начала разоблачены, расстроены, сведены в ничто одной неопровержимой очевидностью: когда познал близнецовую близость, всякая иная близость ощущается только как мерзкое сожительство.
………………………
Жан-кардажник. Это заработанное им в Звенящих Камнях прозвище обозначает фатальную и разрушительную черту его личности и как бы его ночную сторону. Я говорил о том, насколько смехотворной была претензия Эдуарда присвоить себе одного из нас и оставить другого Марии-Барбаре («каждому по близнецу»). Но персонал Звенящих Камней ненароком осуществил это распределение просто за счет притяжения двух своих полюсов.
Одним из полюсов была маленькая команда сновального цеха, три высокие девушки, очень аккуратные, немного суровые, бесшумно перемещавшиеся вокруг наклонных рамок, где были расположены триста бобин, с которых сматывались нити, формировавшие основу на стане. Этими сновальщицами руководила исподволь и неослабно Изабель Даудаль, чье гладкое лицо с выступающими скулами выдавало бигуденские корни. И действительно, она была уроженкой Пон-Дабе, расположенного на другом конце Бретани, и приехала на наше северное побережье только в силу своей высокой профессиональной квалификации и еще, возможно, потому, что эта красавица так и не смогла выйти замуж, что необъяснимо, ведь не могла же тому помешать ее манера ходить чуть-чуть вразвалку, вдобавок настолько распространенная в устье Оде, что она стала признаком породы, столь же характерным, как и разноцветные глаза у савойских пастухов.
Я любил целыми днями торчать даже не возле шлихтовального короба или большого сушильного барабана, где дули пьянящие запахи пчелиного воска и гуммиарабика, а в этом сновальном зале, и моя приверженность к хозяйке этих мест была настолько очевидной, что иногда в цехах меня называли месье Изабель. Разумеется, я не пытался разобраться в тех чарах, которые привлекали и удерживали меня в этой части фабрики. Наверняка тихая и спокойная власть Изабель Даудаль играла здесь значительную роль. Но высокая бигуденка в моих глазах была неотделима от магии сновальни, с прилежным рокотом перебиравшей нити различных оттенков. Рамка для катушек с основой — просторное металлическое шасси, расположенное дугой, — частично закрывала высокое окно, свет от которого струился сквозь триста составлявших его разноцветных бобин. От каждой бобины шла нить — всего триста нитей, сверкающих, дрожащих, сходящихся к соединяющей их гребенке, сближающей их, свивающей в шелковое полотно, переливы которого медленно накручивались на большой цилиндр из полированного дерева пяти метров периметром. Это полотно было основой, продольной и главной частью ткани; потом на ткацком станке нити основы, перемещаясь в вертикальной плоскости, образуют пространство, в которое пролетят и с маху будут отброшены челноки с уточной нитью. Снование, конечно, было не самой сложной и не самой тонкой фазой ткачества. К тому же операция была довольно быстрой, так что Изабель и ее три товарки единственной сновальной машиной обеспечивали полотном двадцать семь ткацких станков «Звенящих камней», — но эта фаза была самой фундаментальной, простой, светлой, и ее символическое значение — сведение в единое полотно сотен нитей — грело мне сердце, увлеченное мыслью о единении. Бархатное ворчание мотовил, скольжение нитей, летящих навстречу друг другу, колебания мерцающего полотна, накручивавшегося на высокий цилиндр красного дерева, — являли мне модель космического порядка, хранимого неспешными и величественными фигурами четырех сновальщиц. Несмотря на лопастные вентиляторы, расположенные над гребенкой и призванные прибивать пыль к земле, густая белая вата покрывала своды зала, и ничто так не способствовало магии этих мест, как эти переплетения стрельчатых овалов, своды, круги, шерстяные, ватные, меховые стяжки, мы как будто находились внутри гигантского мотка шерсти, пуховой муфты размером с церковь.