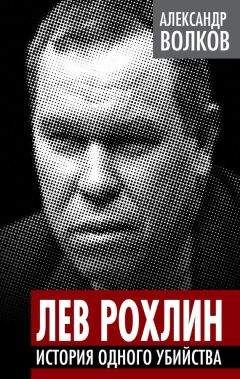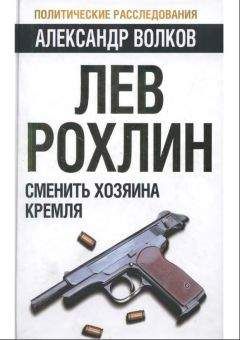Бернардо Ачага - Сын аккордеониста
Я взял тетрадь с гориллой с полки и дал ему. «Это список людей, которых нужно было убить в Обабе», – сказал я. Хуан медленно прочел его, задерживаясь на каждом имени. «Где ты это взял?» – спросил он. «В одной комнатке в гостинице. Мне кажется имена Эусебио и Портабуру написал мой отец». Дядя перечитал список. «Как бы то ни было, я не думаю, что Анхель принимал участие в казнях. Портабуру, например, ограбили где-то на улицах Сан-Себастьяна, и он погиб от рук шайки грабителей». Но дядя тоже сомневался. Тетрадь удивила его. «Может, он и не принимал непосредственного участия, он окружил себя убийцами. Этого нельзя отрицать», – сказал я. «Да, этого отрицать нельзя, – ответил Хуан. – Но то же самое можно было бы сказать о таком количестве людей! Я ведь тебе уже говорил, что некоторые из джентльменов, которые придут на праздник в честь Ускудуиа, настоящие преступники».
Он схватил меня за руку. «Ты не должен появляться на открытии памятника, Давид! – неожиданно приказал он. – Повторяю то, что уже говорил: если ты исполнишь испанский гимн на открытии памятника, ты будешь навеки заклеймен! Кроме того, у этих людей нет будущего. Даже в самый день открытия им не обойтись без проблем. Их будут бойкотировать», – »Но мне сложно отказаться, дядя. За мной придут. Вот увидишь», – сказал я. «Нет. Не увижу. Прямо завтра я уезжаю в Америку. Я уже предупредил твою мать, что в этом году мы не встретимся на обеде по случаю праздника. Твоя мама хотела, чтобы семья была выше политики, но иногда это невозможно».
Я взял тетрадь с гориллой и вернул ее на полку. «Ну, если и тебя не будет, я даже не знаю, как мне все устроить», – сказал я. «Залезешь в убежище днем пятнадцатого числа и выйдешь через двадцать четыре часа. Празднование к тому времени закончится». – «Легко сказать». – «Это непросто, Давид. Тебе будет очень тяжело сидеть в темноте взаперти в течение двадцати четырех часов подряд. Поэтому лучше привыкай постепенно».
Когда я подошел к павильону, уже темнело, и все, кто помогал при вторичном захоронении Поля, сидели на земле, большинство из них курили сигареты. Они спорили по поводу того, кто бы победил в поединке, Кассиус Клей или Ускудун, если бы эти боксеры выступали в одно время. Убанбе говорил: «Имейте в виду, что Ускудуна с компанией накануне боя укладывали спать три или четыре женщины, и, конечно, поскольку они такие же свиньи, как и мы, то трахались до изнеможения и на следующий день, поднявшись на ринг, уже не имели сил даже по груше ударить. Теперь же боксеры очень хорошо подготовлены к бою, даже сравнивать нельзя…» Заметив мое присутствие, Убанбе прервал объяснение. «Ты что, не выспался, Давид? – спросил он. – У тебя такое одуревшее лицо». Все рассмеялись, а Панчо какое-то время продолжал визжать, подражая ржанию лошадей. «Он напился на обеде, которым нас угощал твой дядя. Теперь думает, что он конь», – сообщил мне Убанбе. Опин стукнул Панчо по спине. «Нам следовало бы вот этого выставить сразиться с Тони Гарсией. Он легко победит его с помощью пинков» – сказал он. Ко мне подошел Лубис: «Я иду домой Уже устал их слушать». – «Я тебя провожу», – предложил я. «Прощай, господин Соня!» – выкрикнул Убанбе, и все снова громко расхохотались.
«Поедешь завтра в лес, Лубис?» – спросил я, когда мы проходили вдоль загона. «А что делать? Ты же видишь, что с моим братом. Он совершенно не в себе. Говорит, что это будет лучший праздник из тех, что когда-либо отмечали в Обабе, и ни о чем другом больше не думает». – «Мы можем поехать вместе?» – «Ну конечно. В девять часов я зайду к Аделе забрать еду, а к полудню мы уже вернемся. Сейчас в лесу работают только три бригады». – «Хорошо. Так мы как раз успеем проститься с Хуаном. Ты же знаешь, он уезжает в Америку, не дожидаясь Ускудуна». – «Да, он мне уже сказал». Я почувствовал облегчение, убедившись в том, что могу с ним разговаривать.
XV
Мы взяли приготовленную Аделой еду и ровно в девять часов утра отправились в горы. В отличие от тех прогулок, которые мы совершали на Аве и Фараоне, на этот раз мы двигались почти по прямой линии, не огибая крутых подъемов, не теряя времени на поиск пологих склонов, стараясь как можно скорее набрать высоту. Мы попадали в лесные чащи, куда не проникал свет, на склизкие от сырости откосы; однако даже при том, что нам все время приходилось тянуть за собой Моро, который толком не знал этого пути и всячески сопротивлялся, мы шаг за шагом продвигались вперед, не перебрасываясь ни словом, сосредоточив все наши усилия на преодолении трудностей, и остановились, лишь когда дошли до первой хинины лесорубов.
«Почему вы не приехали по дороге сороконожек?» – спросил нас один из лесорубов с лесопильни. Сороконожками называли грузовики, предназначенные для перевозки бревен по горным дорогам. «Мы сегодня пришли не из городка, – объяснил ему Лубис. – Мы пришли из Ируайна, и обед приготовила Адела, жена пастуха». У лесоруба были курчавые волосы, и, когда он улыбался, губы его, казалось, тоже курчавились. Он внимательно посмотрел на меня. «Лубис, ты только погляди, в каком виде пришел сюда твой друг. Он весь вспотел». Это была правда. Воротник рубашки у меня был весь мокрый. «Мне это только на пользу, – ответил я. – Говорят, с потом выходят токсины». Мужчина взял топор, лежавший на поваленном стволе, и протянул его мне: «Если хочешь попотеть, поработай с нами». Лезвие топора, словно зеркало, отразило утренний свет.
Лубис вынул из корзины на спине осла кастрюлю. Лесоруб приподнял крышку, чтобы посмотреть, что в ней. «Тушеное мясо с помидорами. Это, конечно, не жареный цыпленок, но и мясо мы съедим с удовольствием», – сказал он. У него было хорошее настроение, он снова улыбнулся. Внезапно он поднял топор, словно это был мачете, и ловким броском вонзил его в дерево, стоявшее метрах в пяти от нас.
«Что там внизу говорят о дровосеке?» – спросил он меня. Я не понял его. «О каком дровосеке?» – «Об Ускудуне! Ты что, не знаешь, что, прежде чем стать боксером, он орудовал топором. В точности как мы!» Я сказал ему, что не знал этого, «Так ты откуда?» – «Да отсюда. Я племянник Хуана Имаса», – ответил я. Тогда он спросил с сомнением: «Так ты сын аккордеониста?»
Освободив кастрюлю и оставив еду в хижине, Лубис присоединился к нам. «Сколько буханок хлеба вам нужно?» – «Хватит восьми». Буханки были весом в фунт каждая. «Так, значит, Ускудун приедет на городской праздник», – сказал мужчина Лубису, прижимая к груди восемь буханок. «Я бы тоже приехал за пятнадцать тысяч песет!» – ответил Лубис. В Обабе 1966 года это была весьма солидная сумма. «Да и я тоже! – воскликнул мужчина. – Однако немного таких, кто может есть хлеб, не работая». – «Не жалуйся, – сказал ему Лубис, – есть люди, которые его и не пробуют». Он похлопал Моро, и осел решительно направился по тропинке, терявшейся в лесу. «Эту дорогу он знает прекрасно, – сказал Лубис, – так что, нам не придется его тащить. Вот увидишь, Давид. Он сам нам укажет, куда идти».
Лесоруб с курчавыми волосами попрощался с нами в дверях хижины. Ему, должно быть, было лет пятьдесят, и я не мог представить его себе ни старше, ни моложе. Мне вдруг подумалось, что он так и застынет навсегда у дверей хижины, будто прикован'ный к восьми буханкам в фунт веса каждая.
Настоящим наслаждением было спускаться по лесному склону, ни о чем особенно не заботясь, просто следуя маршруту, прокладываемому Моро. Удовольствием была уже сама возможность дышать, а к ней прибавлялось еще одно удовольствие – покой, который наполнял меня оттого, что теперь я осознавал, где я живу, в каком отечестве: не в отечестве Анхеля или Берлино, не в отечестве Адриана, Хосебы и других моих товарищей по учебе, а в лесу, там, где все еще можно было встретить людей из прошлого. Пылал в моей душе и еще один огонь – третье удовольствие: после беседы с Хуаном я твердо решил не играть на аккордеоне на празднике с Ускудуном в качестве главного героя.
В какие-то моменты, когда мы проходили по самым темным местам леса, я чувствовал себя так же, как тогда, несколько лет назад, когда с тем же самым Лубисом и его братом Панчо я открыл для себя пещеру с омутом. Я смотрел на капли росы на листьях папоротника, и они казались мне хрустальными, как те брызги, что разлетались, когда мы ударяли по поверхности воды. В эти мгновения мои первые и вторые глаза созерцали одну и ту же картину.
Но к сожалению, это впечатление было непостоянным. Как это случается на голограммах, что продаются в лавках, торгующих всяким хламом, на которых один и тот же человек то появляется полностью одетым с головы до ног, а то вдруг тут же предстает обнаженным, лес снова и снова менялся перед моим взором. Я делал еще шаг и внезапно оказывался в той, другой пещере, заполненной тенями. В такие мгновения мои вторые глаза вытесняли первые, и перед моим взором вновь проходили Берлино, Анхель, американец, добрый алькальд Умберто, отец Сесара – Бернардино, отец Лубиса – Эусебио, старый Гоена, молодой Гоена и все остальные. И впервые тени заговорили со мной. «Почему меня убили, если я никому никогда не делал ничего плохого?» – говорил Умберто. Или американец: «Так ты хочешь надеть мою серую шляпу от Хотсона, которую я купил в Виннипеге?» Или Эусебио: «Мы что, так и будем все время убивать друг друга?» Или Берлино: «Мы знаем, что ты провел целый день в комнате Терезы. Об этом нам рассказал Грегорио. Мы с Женевьевой ждем тебя в гостинице, чтобы разобраться с этим. Если правда, что вы занимались там всякой мерзостью, ты нам за это заплатишь». Или Анхель: «Я знаю, ты не репетируешь. В день открытия памятника ты выставишь себ на посмешище. Опозоришь меня перед такими важными господами». Все эти голоса повергали меня в такое нервозное состояние, что Лубис время от времени бросал на меня тревожные взгляды. «Тебя не тошнит, Давид? Выпей немного воды». Но мне не нужна была вода. Мне достаточно было услышать Лубиса чтобы выйти из отвратительной пещеры. Его голос стирал шепот теней, возвращая меня в лес Обабы.