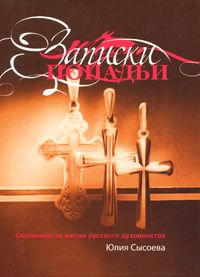Джонатан Коу - Клуб Ракалий
— Гардинг, — в унисон ответили все (кроме Бенжамена).
Мистер Серкис вздохнул:
— Да, вполне в его духе. — Он вгляделся в самую что ни на есть настоящую восковую печать, стоящую внизу возмутительного манускрипта. — Он все доводит до точки.
— Это его собственный перстень с печаткой, — сообщил Филип. — Гардинг отыскал его где-то — у старьевщиков, что ли, — и с тех пор не снимает с пальца.
— Вам вообще не нужно было это печатать, вообще, — сказал мистер Серкис, снова просматривая письмо и неодобрительно кривясь, когда взгляд его натыкался на пассажи особенно вопиющие. — И уж во всяком случае, следовало его отредактировать. Нельзя же, согласитесь, делать всеобщим достоянием чей-либо домашний адрес. Или вот это место, о Стиве и Сисили, — по сути, тут говорится, что они у всех на глазах занимались сексом. Да и фраза насчет «смешения рас» попросту ужасна. Ужасна. Вам придется напечатать извинение.
— Хорошо, — безропотно согласился Дуг и записал в блокноте пару слов, для памяти. — Извинение.
— Далее. Не знаю, кому принадлежит шуточка насчет урока-дрочилки, однако директор от нее на стену полез. И дело не в одном этом слове, дело… Ладно, вот что он пишет. — Мистер Серкис взял со стола начертанное витиеватым почерком письмо директора. — «Исходя из духа работы прежней редакционной коллегии, я питал надежду, что нынешний ее состав сумеет подняться выше уровня дешевого юмора старшеклассников».
— Ну, вообще говоря, мы ведь все еще учимся в школе, не так ли? — заметил Филип. — Поэтому я полагал, что юмор старшеклассников — штука вполне уместная.
— Напечатайте извинение, — сказал нимало этим доводом не убежденный мистер Серкис, и Дуг нацарапал в блокноте еще несколько слов. — И наконец, — мистер Серкис перевел взгляд на Клэр, — ваше интервью с Сисили тоже вызвало много нареканий. Должен сказать, это один из самых злобных пасквилей, какие я когда-либо читал.
— Она его заслужила, — заявила Клэр, однако в тоне, которым это было произнесено, явственно слышалось желание оправдаться. — Она же примадонна высшего ранга. И все это знают.
— Вы были слишком пристрастны. А уж пассаж насчет флирта во время уроков и вовсе неуместен.
— Но это же правда.
Недолгое молчание; разговор зашел в тупик.
— Значит, еще одно извинение, — сказал, снова что-то записывая, Дуг. — При таких темпах у нас ни на что другое и места-то не останется. И опять же, кто их будет писать?
Когда стало ясно, что добровольцев ждать не приходится, выбор мистера Серкиса пал на Бенжамена.
— А почему я?
— А потому, что вы — лучший автор журнала. — И, поняв (поняв правильно) по ошеломленному выражению, появившемуся на лице Бенжамена, что комплимент его оказался и неожиданным, и ошарашивающим, мистер Серкис в виде уточнения прибавил: — К тому же вы единственный, чья статья никакого притока жалоб не вызвала.
Вот тут он, сам того не желая, наступил на больную мозоль.
— Интересно, почему? — пожелал узнать Бенжамен. — Я отозвался о спектакле очень резко. Почему же мне-то никто возражать не стал?
Ответа на этот вопрос никто, по-видимому, не знал, и Бенжамена быстренько спровадили в соседнюю комнату — на предмет сочинения полновесных, но при этом скрытно нераскаянных извинений.
Он сидел перед пишущей машинкой, смотрел на серебристо отсвечивающие под дождем крыши. Над ними поднимались по обе стороны от Южной дорожки два жестоко мотаемых ветром дуба. Несколько мгновений Бенжамен всматривался в деревья, затем взгляд его прошелся, не останавливаясь на них, по иным вещам. По пятнам шиферной серости, шоколадной коричневы, пастельной зелени. Пальцы Бенжамена лежали на клавишах машинки, бездеятельные, оцепенелые. Вопрос, который мучил его — «Почему все так? Почему ничто никого, похоже, не… не трогает? не задевает?», — уплыл куда-то, в места, в которые никто не заглядывает, и развеялся там, расточился, расплылся. Бенжамен сознавал, смутно, что школа продолжает жить своей жизнью, понемногу стихающей в классах и коридорax, лежащих под его ногами. Пятничные занятия подходят к концу: шахматисты складывают фигуры; фетишисты военных игр сворачивают карты и схемы; художники моют кисти под рассеянным приглядом мистера Слива; члены Объединенного кадетского корпуса снимают мундиры и облачаются в гражданское платье; музыканты, радиолюбители, поклонники бриджа и адепты игры в «пятерик» — все готовятся разойтись по домам. Мир тужится подыскать хоть какое-то занятие! А Бенжамен ощущает себя таким далеким от всего этого, таким отстраненным! Он просто сидит и сидит за пишущей машинкой, охваченный вялостью, безразличием. В какое-то из мгновений в комнату зашла Клэр — забрала пару папок со старыми номерами журнала, может быть, даже что-то сказала ему. Филип-то, в наброшенном на плечи плаще, уж точно заглянул, перед тем как уйти, в дверь и произнес: «Не засиживайся», или «Ну ладно, до понедельника», или «Как делишки, маэстро?» — что-то в этом роде. Все они, полагал Бенжамен, удалились один за другим. Да и ему пора бы. Не сидеть же здесь все выходные. И все-таки что-то странно уютное ощущалось в этой апатии, в одиночестве. И безмолвие коридора с ним об этом не спорило.
Временами, когда он вот так оставался наедине с собой, Бенжамен ждал, что Бог заговорит с ним. Он вспоминал молчание раздевалки, дверцу шкафчика, приоткрывшуюся и захлопнувшуюся, звук собственных шагов, когда он направился за даром, поднесенным ему в тот памятный день. С тех пор Бог с ним не говорил. Да нет, конечно, рано или поздно, уже скоро, Он снова обратится к нему. Но тут уж Бенжамену оставалось только одно — терпеливо ждать.
Он услышал в коридоре шаги. Звуки легкой девичьей поступи, миновавшие его полуприкрытую дверь и удалившиеся в сторону редакционной. Ну и пусть их.
Может, все-таки заняться составлением извинений? Однако необходимые для этого усилия представлялись ему непомерными — физическое, чтобы поднять палец и ударить по клавише машинки, ударить так сильно, что на бумаге запечатлеется буква, не говоря уж об умственном, о попытке решить, по какой клавише ударить, а после, в виде логического продолжения этой мысли, принять на себя страшную ответственность придумать первое слово. Ладно, он напишет все дома, завтра или в воскресенье. Времени впереди еще много. Сейчас же куда лучше сидеть, упиваясь своей отчужденностью, затвориться от всего, тонуть и тонуть в сладкой бесчувственности, в которую никогда не сможет пробиться ни единый звук, ни единый образ.
И вправду, не звук и не образ вырвали Бенжамена из полного оцепенения. Запах. Запах сигареты.
И вот это уже было странно. Курить в школе запрещалось — и столь строго, что даже Дуг ни разу запрет этот нарушить не пытался. Как только безошибочно узнаваемый затхлый душок табака достиг его носа, Бенжаменом овладело любопытство. Он поднялся из кресла, в котором почти уж лежал, и осторожно — едва ли не крадучись — направился по коридору к редакционной. И, дойдя до ее двери, замер.
Сисили Бойд сидела, а вернее сказать, горбилась над редакционным столом, спиной к двери, подсунув под себя босую ногу (туфелька с которой, по всему судя, просто свалилась). Поза Сисили источала напряженность, нервное ожидание. Бежевые брючки, свободный ворсистый темно-синий свитер, знаменитые золотистые волосы, собранные в хвост, спадающий почти до поясницы. Пепел сигареты без фильтра осыпался на поверхность стола. Сисили неотрывно глядела в окно, позволяя Бенжамену любоваться ее профилем. Тонкий орлиный нос, светлые — до невообразимости — голубые глаза, галактика еле заметных тонких веснушек на скулах и крохотная родинка на левой щеке. Все это было ново для Бенжамена, сообразившего вдруг, что он, сказать по правде, к Сисили ни разу как следует не присматривался, разве что издали или краем глаза, украдкой. Сейчас, вблизи, во плоти, она была в пятьдесят, во сто, в миллион раз прекраснее, чем ему когда-либо воображалось. Казалось, сердце его просто остановилось, на много-много секунд.
Но тут она повернулась, и Бенжамен мгновенно понял, еще до того, как успели сойтись их взгляды, что Сисили пришла сюда с одной-единственной целью — увидеть его.
Он неловко шагнул к ней.
— Ты Бенжамен, — буднично сообщила она.
— Да. — А следом, неведомо почему: — Знаешь, здесь ведь курить запрещено.
— А. — Сисили выронила сигарету, нащупала голой ступней туфельку и аккуратно растерла окурок по полу. — Ладно, будем придерживаться правил, идет?
Она замолчала, не сводя с Бенжамена глаз, и он заставил себя выдавить еще одну фразу: — Все уже разошлись.
— Ну не все же, — ответила Сисили. — Я, собственно, тебя увидеть хотела. — Она вздохнула: — Это ты написал…
— …рецензию на ваш спектакль, да, я понимаю. Я… (Слово, единственное, какое он сумел найти, вдруг показалось ему бессмысленным.) Прости.