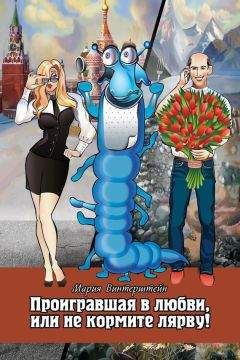Уильям Стайрон - Уйди во тьму
Лофтис помнил, что в тот момент, когда последний гость (молодой холостяк, очень пьяный, задержался, мрачно соскребая со дна сервировочной чаши остатки еды) вышел, пошатываясь, дикая паника охватила его. Где Пейтон? Почему она не приехала? Что случилось? Его чудесная, веселая вечеринка мгновенно рассыпалась, как шарик с рождественской елки под неосторожной ногой. По непонятной причине Лофтис был почти трезв. Ему хотелось убить Долли, но вместо этого он сказал: «Я через минуту вернусь, Эдвард», — и со странным, бессмысленным чувством сострадания пошел наверх, мимо комнаты, где Элла, вся в кружевах и лентах, с веточкой остролиста, приколотой к груди, укладывала Моди в постель. Лофтис постучал в дверь спальни Элен — она была незаперта, и вошел. Элен лежала на кровати. В комнате было тепло, и она была накрыта лишь простыней. Лампы в комнате не горели; красный свет, отраженный снегом от заходящего солнца, лежал на кровати, и сложенные руки Элен, казалось, собрали этот свет и, как розы, прижали к груди. Она лежала неподвижно, словно мертвая — малиновая мраморная скульптура.
— Вы ушли, — сказал Лофтис.
— Да, — ответила она, устремив взор вверх.
— Почему?
— Сама не знаю.
— Почему? — уже громче спросил он. — Вы, знаете ли, могли бы вести себя менее грубо.
— Я не знаю. По-моему, я простудилась.
— О великий Боже, — сказал он.
— Что?
— Ничего, — ответил он. И сел на стул рядом с ней.
— Когда приезжает Пейтон? — спросила она.
— Уже сейчас, надеюсь.
— Я хочу видеть ее, — безразлично произнесла она.
— Хорошо, — сказал он. — Вам не нужно никакого лекарства? Почему бы вам не принять горячую ванну?
Она не ответила. Потом вздохнула.
— Милтон… — начала она.
— Да.
— Вы считаете, мы когда-нибудь сможем простить друг друга?
— За что?
— За всё. За эти мучения.
— Какие же это мучения, Элен, — возразил он, — если, конечно, вы не настаиваете так это называть. Мне надоело пытаться понять это.
— О да. Это так. — Она немного передвинулась, и красивый красный свет разлился ручейками по складкам простыни. — О да. Никто никогда не узнает, что я терплю. Забавно, верно? Вот я усиленно тружусь целую неделю, и я счастлива, и, пожалуй, я знаю, что люди говорят: «Элен Лофтис, да вы посмотрите на Элен Лофтис, посмотрите: она же заново родилась». Возможно, они так говорят. А на самом деле у меня такое чувство, будто я вообще не родилась или никогда не хотела родиться.
— Элен…
— Ох, Милтон, что-то со мной неладно… — Она села в постели, сдвинув простыни ниже колен.
— Как мне поступить? — спросил он, глядя ей в глаза. — Я говорил, что уйду, а вы сказали «нет». Да я и не могу уйти. Моди…
— Моди?! — пылко произнесла она. — Да, Моди! Но дело не в Моди. Во мне! Я сказала себе, что с любовью или чем-либо подобным покончено, мы продолжаем жить вместе, как жильцы или что-то в этом роде, и держимся вместе для выполнения формальных обязанностей. Все остальное не имеет значения. Жить вместе, как жильцы, — остальное не имеет значения. — Она умолкла, провела руками по волосам и закашлялась.
— Накройтесь… — начал было он.
— Подождите. — Она положила свою руку на его руку и повернулась к нему — в слабом свете глаза ее были влажны и безумны. — Я, понимаете, так говорю, — продолжала она, — но так не думаю. Я все помню. Ох, послушайте… — Она умолкла, придвинулась к нему и спустила с плеч бретельки ночной рубашки, так что рубашка бесшумно съехала на ее талию. — Посмотрите, — шепотом произнесла она, — посмотрите на меня. — Она положила руки под груди и слегка приподняла их, и он вдруг почувствовал запах духов. Он смотрел на нее, и грустная волна воспоминаний поднялась в нем, и он протянул руку и дотронулся до ее груди. Грудь была горячая и мягкая, очень нежная и знакомая. Элен накрыла его руку своей рукой и сильно прижала ее к себе. — Сожмите ее, — сказала она, дрожа, — разве нет во мне любви? Раньше вы держали меня в своих объятиях и целовали меня. Я помню нашу квартиру. Как мы тогда много беседовали друг с другом. Все время разговаривали. А ночью вы говорили: «О, любовь моя», — и обнимали меня. Так вы говорили. Помните?
Она впилась ногтями в его руку, быстро отбросила ее и снова улеглась в постель. Ее груди, все еще обнаженные, тяжело перекатились на сторону, уже немолодые, слегка поднимавшиеся и опускавшиеся от дыхания, и поскольку она дрожала, он накрыл ее простыней. Красный свет снова обволок ее, но вечер уже почти настал — свет в небе над заливом перешел в темноту, и ее тело, комната, его все еще протянутая рука стали голубоватыми. Он убрал руку и, нагнувшись, прижался лицом к ее лицу, и даже прежде, чем соприкоснулись их щеки, почувствовал ее лихорадочный жар.
— Элен, — сказал он, — вам бы лучше… Вы горите.
— Не надо, Милтон, — сказала она. — Все в порядке.
Снизу донеслось хлопанье дверей, молодые веселые голоса и затем смех Эдварда, слишком громкий.
— Это Пейтон, — сказал Лофтис, отрываясь от ее лица.
Какое-то время они молчали.
— Она ненавидит меня, — прошептала Элен.
Он взял ее руку в свои и крепко сжал. Это было ужасно. Музыкальная нота, неистовая и непрерывная, возникшая ниоткуда, но полная неизбывной муки, зависла в воздухе, и Лофтис потряс головой, словно намереваясь ее прогнать, подумал о своих детях, о своем восторге, которого больше не было, он был утрачен, и о Моди, умиравшей в соседней комнате. Под пальцами он почувствовал сплетение вен на руке Элен и прижал ее руку к своей щеке.
— О нет, — сказал он, — о нет, не говорите так.
Но всё уже прошло. Замкнувшись в решительном молчании, Элен не откликнулась; она вырвала у него руку, тяжело дыша, и музыка исчезла. Его боль растворилась в ночи, словно унесенная невидимой силой.
Позже он вспомнит, как в этот момент в последний раз возникла существовавшая между ними нежность. Так они еще никогда не сближались. Почему же ничего существенного не произошло? Словно он — да и она тоже; впрочем, откуда ему знать? — просто перестарался. Никто не знает, когда раскрываются сердца, — у них они на минуту открылись широко, и они посмотрели друг на друга, а потом быстро моргнули и замкнулись в себе. Он понимал: сейчас слишком поздно — что угодно могло случиться, и он готов был встретить катастрофу. Он выпрямился.
— Вы хотите видеть Пейтон? — спросил он.
— Нет.
— Вы же говорили, что хотите.
— Немного позже. Сейчас я устала.
— Она не питает к вам ненависти, Элен. Это вы ненавидите все вокруг.
— Она сказала мне, — проговорила Элен мягким, тихим голосом, — она сказала: «Я ненавижу вас».
— Не будьте ребенком.
— Она сказала это мне в лицо.
Продолжать разговор было бессмысленно. Черт бы побрал Долли. Почему она позвонила? И тут вдруг все стало ему ясно, словно озаренное вспышкой. Он нагнулся над Элен и резко произнес:
— Почему вы отыгрываетесь на Пейтон? Да что с вами, Элен? Вы не в себе. Давайте поедем к этому норфолкскому специалисту, как я предлагал. Я просто не могу это больше выносить.
Она пошевелилась, вздохнула, издала тоненький отвратительный звук вроде смешка и пробормотала:
— Старый наивный Милтон! Какой заботливый.
Да. Великий Боже, ничего тут не поделаешь. Чувство вины холодком пробежало по его спине, и, вздрогнув, он произнес:
— Послушайте, Элен. Я брошу то, другое, ну вы понимаете, о чем я. Если только вы не станете озлоблять Пейтон. О Господи, все так плохо! Я-то думал, что это будет отличное Рождество — все видели, как вы хорошо выглядели, — а теперь смотрите, что получается.
— Во всем виноваты вы, вы виноваты, — язвительно произнесла она, и поскольку было уже темно, он не мог ее видеть, а лишь услышал шуршание простыней, когда она перевернулась на бок, спиной к нему.
Вот и все. Выходя, он хлопнул дверью и внезапно вспомнил своего отца: «Сын мой, крушение всех твоих надежд может привести к высшему пониманию — поскреби эти голые тухлые кости, принюхайся, посмотри в лицо страшной правде, и если, по словам нашего Господа, не потеряешь сознание и будешь страдать от страстного желания, тогда, быть может, ты все поймешь, так что терпение, сын мой». Но папа ведь не знал. Папа не мог понять, что такой разговор предназначен лишь для тех, у кого нет дилемм. Он никак не мог предвидеть подобного Рождества, когда каждая минута, которую отстукивали часы, после того как Лофтис вышел из комнаты Элен, была словно заряжена жестокой неизбежностью, вне обычных норм: Лофтису казалось, что он мог бы предотвратить случившееся, лишь взорвав дом.
И он вспоминал потом, какой взрослой показалась ему Пейтон всего через три месяца: она отрастила волосы, и они, блестя от снежинок, каштановыми волнами ниспадали ей на плечи, почему-то придавая новую, дерзкую уверенность ее лицу, которое она подняла к нему, чтобы он ее поцеловал; она улыбалась, затаив дыхание, с зарумянившимися от зимнего холода щеками. Она стряхнула снег со своего пальто и, держа Лофтиса за руку, сказала, что нет, нет, она решительно не может остаться на ужин, папа, потому что меньше чем через час в Загородном клубе — танцы, и она представила ему Дика Картрайта, стройного, довольно красивого юношу — университетского первокурсника, от которого пахло пивом, коротко остриженного и с чрезмерно большой трубкой, которую он перестал сосать, чтобы пожать руку Лофтису с характерной для первокурсников снисходительностью. В одном углу гостиной стоял Эдвард, с мрачным видом потягивая какой-то напиток; покачиваясь, он нагнулся и включил радио. Поздоровавшись с Пейтон и Диком, он удалился в собственный грандиозный мир, а Лофтис, окинув все это взглядом, успел только повернуться и спросить Пейтон: