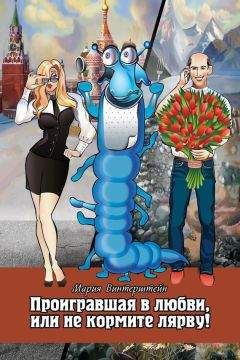Уильям Стайрон - Уйди во тьму
5
Катафалк и лимузин проехали центр города, и теперь в западных предместьях, наверное, будет меньше движения на шоссе, ведущему к кладбищу, которое находилось в шести милях от города. Это принесло значительное облегчение мистеру Касперу, да и Лофтису тоже, хотя, пожалуй, в меньшей степени. Лофтис старался не думать о том, что будет происходить, и странно, подумал он, как напряженно он следит за каждой остановкой за чертой города, каждым поворотом едущего впереди катафалка, и с каким страхом наблюдает, когда катафалк в очередной раз останавливается у светофора и у него из-под капота вырывается дым. Если катафалк развалится, Лофтис знал: он этого не вынесет. Он побежит прочь по улицам, крича во весь голос, или, если это случится позже, на шоссе, — побежит через лес, болото и под конец, возможно, упадет где-нибудь в чащобе, чтобы спрятать глаза от солнца. Собственно, страшный момент произошел, когда катафалк совсем остановился посреди полуденного движения по шоссе. Это случилось, когда обе машины наткнулись на длинную череду автомобилей, стоявших у светофора на скрещении Тридцать четвертой улицы и Виргиния-авеню. Этого могло и не случиться, поскольку мистер Каспер сказал Барклею — и не единожды, а трижды, — что надо ехать по менее забитой дороге, через Ниггертаун. Но они были тут, безнадежно застряв. Барклей нажал на стартер, но катафалк не сдвинулся с места, а со всех сторон сигналили клаксоны, раздраженно, ошалев от полуденной жары. В этот момент из лимузина донесся звук отчаяния. Словно жара, и горе, и напряжение — все обрело голос в окружающем яростном хоре клаксонов, и все сидевшие в машине тоже произвели какой-то тихий звук. В этих звуках не было ничего сентиментального — они возникали спонтанно и шли из глубин горя: Долли снова заплакала, Лофтис, задохнувшись, открыл рот и прикрыл глаза рукой, а Элла издала тихий всхлип или вздох — трудно определить, — зародившийся где-то глубоко в груди и вырвавшийся на мягкой высокой горестной ноте, завершившейся словом «Иисус».
Что до мистера Каспера, то он тихо изрек: «Проклятие», — и вышел из лимузина. Из катафалка вылез Барклей, трясущийся и нервничающий, и к нему подошел полицейский, вежливо спрашивая (казалось, из всех пешеходов и автомобилистов один только он чувствовал всю деликатность ситуации), что случилось и почему и не может ли он помочь. Кстати, им повезло, что он подошел, поскольку именно он завел мотор катафалка. Барклей снова попытался было, потом мистер Каспер, и наконец полицейский. Это старый трюк, пробормотал он, которому он научился, водя армейские грузовики в Италии. Это был молодой человек, очень загорелый и очень дельный, и он просто ослабил сцепление и вытащил ручной тормоз, а потом нажал на стартер, и мотор благородно начал вращаться. Мистер Каспер любезно поблагодарил его, мрачно посмотрел на Барклея и поспешил назад, в лимузин.
Теперь обстановка на шоссе стала немного лучше, и они ехали молча. Мимо промчались сосны; голубое небо сияло, а на горизонте вырастал огромный грозовой фронт. У Лофтиса кончились сигареты, и он знал, что они есть у Долли, но он настолько не хотел общаться с ней — «ничего, ничего», — твердил он себе, — что не стал просить у нее сигарету и просто сидел и страдал. Мистер Каспер, насколько он понял, не из курящих.
— Милтон, — произнесла Долли между непрекращающимися всхлипами, — Милтон, да скажи же мне что-нибудь, лапочка. Да ну же, Милтон, тебе станет легче, если ты с кем-то поговоришь. Скажи что-нибудь…
Он сказал: «Заткнись», — что она и сделала, и теперь в машине слышны были только ее тихие мокрые всхлипы да шуршание юбок Эллы Суон, когда она время от времени перемещалась на своем откидном сиденье, воздев к крыше машины в молитве глаза. У Лофтиса запылал лоб, мгновенно покрываясь потом, который так же быстро улетучивался от ветра. Лофтис почувствовал, что внутри нарастает тошнота, зеленый фонтан тошноты. Странные мысли, похожие на картинки, горели в его мозгу — старые фотографии из проекционного аппарата, и волны слабой унизительной ностальгии — печальные картины — появились на краю сна. «Элен, Элен, — подумал он сонно, — моя утраченная, моя прелестная, почему я покинул тебя?» Видения яркие, как солнечный свет, идеальные, как цветок гардении, запомнившиеся, как танец, длившийся до зари, — они мелькали перед ним, исчезали, и он на время отключился: Элен предстала ему в виде кошки, бросившейся на него с ножом, — только это был не нож, а что-то другое — цветок или что-то еще, и они находились в Шарлотсвилле, и там тоже была Пейтон, губы ее прильнули к его губам, она говорила: «Папочка, папочка, дорогой зайка», — земной шар невероятно повернулся, и снова настал день, разворачиваясь, разворачиваясь… Лофтис открыл глаза. Рука Долли, мокрая и вялая, лежала на его руке, ее голова была на его плече. Катафалк стоял. Они подъехали к бензоколонке, и в небе полно было дыма.
В ноябре 1942 года, однажды вечером в пятницу, Лофтис совершил два поступка, которые обещал себе не делать. Одним из них было то, что он напился. Знай он, что на другой день ему придется поехать в Шарлотсвилл, он, возможно, воздержался бы, хотя даже и в таком случае, как он позже признал, это едва ли произошло бы. Похмелье, от которого он последние несколько лет все больше и больше страдал, при пробуждении туманило его мозг. В такие, как этот, дни — а так бывало почти ежедневно — любой окружавший его предмет (колодки для сохранения формы обуви, ручки на плите, его нагоняющая страх бритва), казалось, испускал настойчивые, неистовые сигналы и звуки, дававшие понять, что он вовсе не существует, он просто неодушевленный предмет, равнодушно ублажающий свой привередливый желудок, а эти хитроумные новинки техники из металла и резины живут процветающей шумной жизнью и могут растревожить человека, доведя до одурения. В пятьдесят лет он не без паники обнаруживал, что вся его жизнь прошла в похмелье, в сомнительных удовольствиях, за которые он платил тупым неутихающим чувством вины. Знай он, что он алкоголик, все было бы яснее, потому что он где-то читал, что алкоголизм — это болезнь, но он уверял себя, что он не алкоголик, а только человек, потакающий своим желаниям, и что его болезнь — если таковая имеется — гнездится в темных закоулках его души, где решения принимаются не благодаря разуму, а рационально, и где тонкое, как мембрана, самолюбие всегда мешает его благим побуждениям перерасти в удачные действия.
Там же, словно рана, всегда наличествовало сознание, что брак его не удался. Трезвый или пьяный, он обычно умудрялся держать это сознание в глубине, а не на переднем плане своего мозга, — только в полусмерти похмелья, когда рот его превращался в волдырь, а голова была набита мохером и внутренности становились неспокойной пульпой, это сознание прорывалось и проникало в него, и парализовало его тем, что казалось злокозненным трюком, болезнью души, тайной неприятностью. В такие минуты ему ничто не могло помочь, даже тройная доза снотворного, — ему оставалось лишь ждать, чтобы солнечный свет или ветер постепенно развеял его невзгоды, а мозг — как медленно расширяющийся зрачок — наполнился приятными мыслями об обычных радостях, обычных утешениях — например, о Долли или, чаще, о Пейтон.
В пятьдесят лет он выглядел на удивление молодым, хотя и несколько беспутным. Лицо у него было худое и румяное, немного дряблое у челюстей. Нос его слегка загибался вверх, что он считал признаком аристократизма — да, возможно, так оно и было, — вот только благодаря этому видны были волосы в ноздрях, на что Долли скоро обратила его внимание, и он начал их подрезать. В остальном тело его было в хорошей форме — он благодарил Бога за координацию своих движений, что позволило ему стать хорошим игроком в гольф. Будучи согласно виргинским традициям джентльменом-победителем, он тем не менее любил выигрывать и никогда не стал бы заниматься спортом для упражнения тела. Однако виски начало влиять на его игру.
Частично из-за этой непреходящей жизнедеятельности у него возникло чувство возмущения от того, что он начал стареть, и мрачная, полная подозрений обида на Элен. «Возможно, я болван, — говорил он себе или Долли. — Она права: человек просто не может вырвать из себя эти корни. Ты же знаешь, как это отражается на детях… — И быстро оставлял позади эту неприятную мысль. — Но послушай, во мне еще сидит молодость. А Элен… волосы у нее поседели, лицо вытянулось от горечи или религиозности. Этот гомик-священник…» Элен не потрудилась скрыть от него свой интерес к этому человеку, и то, что все пришло к такому вот концу — она преждевременно состарилась, стала одержимой, немного странной, — возбудило в нем приступы тихого, бесплодного гнева.
Он ведь мог об этом знать — тридцать лет назад мог догадаться за время вялого бесцельного ухаживания, — что-то могло ему подсказать тогда, но он был молод и глуп, и сейчас слишком поздно упрекать друг друга. Ну что он может поделать — оставаться ее мужем? Что еще? В любом случае они так давно живут вместе — одно это уже достижение, часто с горечью думал он, однако — поскольку он совершенно законченный лентяй (это он сознавал), потому что, будь он предоставлен сам себе, он знал, что никогда не смог бы зарабатывать достаточно для такого самостоятельно выработанного патрицианского образа жизни, — он по-прежнему зависел от Элен. А она, как сама выразилась, «ради детей» держалась за него.