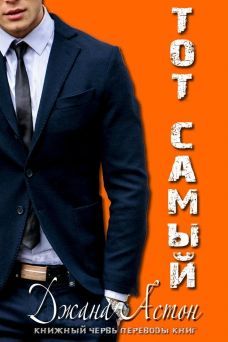Константин Сергиенко - Самый счастливый день
Я получил это письмо в середине декабря, и нужно было сразу поехать. Я вроде бы собрался. Но душевная апатия уже владела мной. Тем более из того же письма я знал, что Леста здорова. Даже не заболела после ледяной воды. Я успокаивал себя. Чуть позже, чуть позже. Тем более надо на приём в министерство. Улаживать дела. Тем более пока не могу забрать с собой Лесту. Тем более нездоров. Ломает, знобит, ночами не спится. Тем более, тем более… Больше всего боялся звонка Веры Петровны. Её строгого ироничного голоса. Но звонка, который, быть может, и встряхнул бы меня, не случилось. Потом я узнал, что Сабурова в эти дни уехала встречать освобождённого мужа. Я потом, уже спустя полгода, встретил её в Москве. Видел издали на концерте. Она шла под руку с высоким седовласым человеком, и на лице её сохранялось выражение той же благородной усталости, с которым она встретила меня на пороге своей квартиры. С ними был и Поэт. Он вернулся в Москву. Два-три его стихотворения появились в журналах, но времена истинного возвращения были ещё впереди. Он не дожил до них.
Ты хочешь узнать, Серёжа, что с остальными? С теми, которые были рядом, вокруг? Кое-кто рядом так и остался. Под землёй, где-то тут, накрытые шапкой одичалой рощи, покоятся завуч Рагулькин, директор Фадей Поликанович и тихий математик Конышев со своей женой. Все они пережили тебя на год или чуть больше. Властное крыло смерти опустилось на город и смело в эту рощу тех, кому и так оставалось недолго. Остальные спасались бегством. Город начал пустеть. Через год здесь почти никого не осталось, а ещё через год его объявили закрытым. Котик Давыдов слал мне отчаянные призывы: «Старик, помоги устроиться в метрополии. Может, фиктивный брак? А если претендентка хоть как-нибудь ничего, то настоящий! Готов пожертвовать молодостью и красотой. Здесь морилка. Чёрт знает, что происходит. Ты молодец, свалил когда надо. И главное, сволочи, скрывают, не говорят ничего. А люди мрут, как мухи. Особенно раковые, но и другие. Вместо Барского страшная яма, техники понагнали, но засыпать не могут. Лилька уже чесанула на юг, Розенталь растворился в воздухе. Розалия совсем очумела, а звездочёт потирает ручищи и предсказывает всеобщий потоп. Химоза держится крепче всех, ей даже нравится, потому что опять как в окопе. Рагулькин сдал и худеет со страшной силой, директора не видать. А знаешь, кто всё устроил? Наш Ерсаков! Не успели кинуть на химию, как он что-то не так сотворил, какой-то контейнер закопал не в том месте. Спешили выполнить план до Нового года! Ну и рвануло. Так, что за два километра от сада я полетел с дивана и разбил башку. Ерсакова будут судить, а я чувствую законную гордость. Всё-таки наши ребята, работники просвещения, кое-что могут. Дайте им в руки рычаг, и тогда берегись, весь мир! Но, кроме шуток, старик, помоги. Я же стоял за тебя на том педсовете. Даже пропустил для храбрости десять граммов. Погибать я тут не желаю. Help!» Я что-то ответил, но Котик больше из возникал. Согласно выраженью из своею письма он «растворился в воздухе».
О ребятах я почти ничего не знаю. Их разметало по разным краям. Слышал только, что Гончарова и Феодориди перебрались с родителями в Москву. О Маслове я прочитал в газете. Он стал комсомольским вожаком крупного института. Прочие канули в небытие. То есть стали взрослыми. Проханов вряд ли остепенился и скорее всего попал в места не столь отдалённые. Коврайский в поэты не выбился. Думаю, бросил писать, располнел, полысел и обзавёлся потомством. Но это предположенья. И лишь об одной достоверно известно. Ей бы лежать с тобой рядом. Так было бы справедливо. Ты опередил её на несколько дней. И лёгкая, прозрачная, в ореоле своих разметавшихся тонких волос, она могла бы догнать тебя, взять за руку и никогда уж не расставаться. Но путь её оказался незрим, направление неразгаданно. Она ушла так, что никто не видел. В адском грохоте, в столбах пламени пропали её следы. Как я узнал об этом, Серёжа? Сейчас расскажу.
Тридцать первое декабря того страшного года. Письмо о твоей гибели получено две недели назад. Порыв сесть в поезд рассеян декабрьским оцепененьем. Целые дни валялся в кровати, спал до полудня. Два-три часа света, и снова сумерки. Сумрак в душе. На Новый год пригласили в компанию старых друзей. Я ожил немного. Мне почему-то казалось, что главное пережить, перевалить через эту дату. На новый год мы всегда возлагаем надежды. Неповторимый, лекарственный ёлочный запах, мерцание хрупких игрушек в зелёной мгле. Вздрагивающие бокалы, их тонкий звон и танцы, танцы, гомон, объятия, объяснения до утра. Искрящийся снег, мириады негаснущих окон и неожиданный чей-то звонок, и неожиданная открытка, и острый морозный воздух. Новый воздух. Новая жизнь. Тогда ещё не было в моде японских календарей, не подбирали одежду по цвету. Но было всё остальное. А главное, надежда на то, что из колодезно-чёрной небесной выси спустится святочная удача-звезда.
Я тщательно нарядился, оглядел себя в зеркале… Поздравил и перецеловал родных. За мной заехали на машине. Я спустился, кинув взгляд на почтовый ящик.
В нём что-то белело. Я открыл, извлёк несколько открыток, письмо, сунул всё это в карман и сел в такси.
Большая квартира сияла огнями. Окна её выходили на Патриаршьи пруды. Посреди катка высилась огромная ёлка. Горели разноцветные фонари, играла музыка, и мальчишки ещё носились по кругу, хотя шёл двенадцатый час.
В квартире тоже стояла ёлка и тоже играла музыка. Меня встретили радостно. А, наш проказник! Ты ещё не в тюрьме? Смотрите, а он неплохо выглядит! Чего тогда прячешься? Забыл нас, забыл! Вот Машенька по тебе вздыхает. Всё ждёт, бедняга. Ещё не женился? А дети есть? Так что там всё же случилось? Ленку Строеву помнишь? Вышла замуж. А Кондауров уехал в Сибирь. Не хнычь, найдём тебе работёнку. Вот Машенька по тебе скучает. Маша, иди сюда!
Музыка играет. На белоснежной скатерти рассыпаны оранжевые мандарины. Чёрный балованный кот шествует по столу меж закусок, графинов, бутылок. Под ёлкой прячется маленький Дед Мороз. В кресле сидит незнакомая девушка в бледно-лиловом платье. Кто-то, с грохотом откинув крышку, проскальзывает рукой по клавиатуре. Хлопок двери, вваливаются новые гости. Радостные восклицания, поцелуи.
— Господа, господа! Без пятнадцати! Пора проводить, разливайте шампанское!
— Провожать лучше вином.
— Какая разница!
Я стою у окна и смотрю на пруды. Там всё ещё много народу. Кто-то решил справлять Новый год на катке. Опускаю руку в карман пиджака, нащупываю открытки. Что там? Это маме. Отцу. Это от родственников из Ленинграда. А это письмо. Как ни странно, мне. В сердце кольнуло. Почерк корявый. Обратный адрес… О, господи…
— Где твой бокал?
— Господа, без пяти! Провожаем Старый!
В одной руке развёрнутое письмо, в другой бокал. Шампанское льётся золотистой струёй, взрывается пеной… Глаза беспорядочно шарят по строчкам. «Николаич… такое несчастье… пошла одна… часовня… рвануло…»
— Прочь все несчастья! Провожаем, ребята!
Шампанское вырывается из бокала, щиплет руку.
Брызги летят на письмо, «…не осталось от неё ничего, только кусочек польта, того, если помнишь в клетку…»
— Коля, ты что не пьёшь?
«…того, если помнишь, в клетку…»
— Ребята, быстрей наливаем!
Медленный бой курантов.
Письмо Егорыча:
«Николаич, не знал, как и написать. И поздравлять с Новым годом тоже не к месту. Не с чем нас поздравлять. Несчастья пошли косяком, и нету от них отбоя. Про Серёжу ты знаешь. Но и про девочку нашу скажу. И её теперь нет на свете. Держись, Николаич, такая судьба. И жалко, ты её не увёз. Ничего бы такого не было. И был бы Серёжа жив. Хотя и это понять, куда ты мог увезти? Своих неприятного куча. Так Бог повелел, и жизнь поворотить невозможно. Ну, ты стало быть, слышал уже о Серёже. Если не слышал, кратко скажу. Тащил Сергей Лесю из полыньи, а сам утонул. Убивались тут все. Полгорода хоронило. Леся, сказать, чтоб вслух убивалась, не могу. Окаменела. Высохла вся до ледышка в три дня. Слова не молвит, воды не глотнёт. Кушать её не мог заставить. До самого Николина дня, когда всё и вышло, совсем ничего не ела. Думается, кроме всего, тебя ожидала. Да я ей сказал, как ты поспеешь? Письмо про Серёжу покамест дойдёт, я знал, что девочки написали, пока то да сё. Тут и Вера Петровна уехала к мужу, а могло статься, ты звонил. Словом, я сам тебя не ждал. А она вроде и понимала, но сердцем я чуял, тоскует она по тебе. Но даже если б приехал, не знаю, чем бы помог. Хуже того, глядишь, и сам отправился бы за ней да Серёжей. Потому что уж наверняка пошёл бы ты в церковь и к той часовне. Было, говорю тебе, девятнадцатое число, день Николы-угодника, твои, стало быть, именины. Вот так, Николаич. В нашей деревне, я помню, гуляли никольщину, пили пиво и брагу дня по четыре. В такие дни женихи да невесты готовились к свадьбам, по храмам молились. Но всё это было раньше. И кроме всякой никольщины, получился это девятый день по серёжиной гибели. Лесенька тут встрепенулась и в церковь пошла. Препятствовать ей не посмел, сам дома остался. После церкви она захотела ещё и к часовне пойти. Той самой, помнишь, в Барском саду. Да сада-то не было уж давно, хотя часовня вроде ещё стояла. И надо ж такому случиться, в этот день её и собрались ломать. Новый директор пришёл на завод, отдал распоряженье. Я всего этого и не знал, а Лесенька словно чувствовала. Эту часовню она любила. Знаю, ходила туда с тобой. И тут, как бы к твоим именинам, словно припомнить старое, решила сбегать туда. Я, Николаич, неладное ощущал. Отговорить пытался, тем более уж темнело. А она говорит, это хорошо, что темнеет, не заметят меня. И побежала одна. В этом своём пальтишке. Я стал дожидать её, не дождался. Рвануло так и тряхнуло, что думал, атомную бомбу спустили. Всё озарилось, как днём, огонь достал аж до неба. И в том огне исчезла наша девочка навсегда, не осталось от неё ничего, только кусочек польта, того, если помнишь, в клетку. Вышло, Николаич, страшное дело. Взорвались склады с опасными веществами, земля провалилась внутрь, и оттуда полезли какие-то испаренья. Кусочек этот польта подняло в высоту, отнесло аж до самой школы, тут его кто-то и опознал. Думается, Николаич, что взрыв не простой, не случайный. Разверзлась геенна огненная, и не надо было им трогать часовню. Об этом все говорят, а Лесенька надеялась, что поймут. Так или эдак, но её больше нет. Погибло ещё двадцать три человека, с ожогами много лежат, а один человек мне сказал, что надо бежать отсюда. Вредные взорвались вещества, а из-под земли идут ещё хуже. И будто сквозняк тянет в ту дырку, всё вплоть до железа сметает туда, хоть и пытаются законопатить, залить бетоном. Нехорошее наше место теперь, Николаич, но я не уеду. Куда? Доживу помаленьку. И я хотел было звать тебя, чтоб приехал, но теперь не знаю. Говорят, неполезно, здоровью вред. А Серёже с Лесей ты уже не поможешь. Что за девочка загляденье была! Мне она полюбилась. И скажу тебе, Николаич, то не простое было созданье. Небесное, неземное. Оттого и жила недолго. Ничего, на том свете, полагаю, не хуже. Это мы тут маемся, а они глядят оттуда и нас жалеют. Думаю, Лесенька и там не забыла нас. А мы уж здесь её будем помнить.