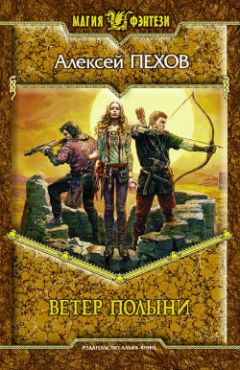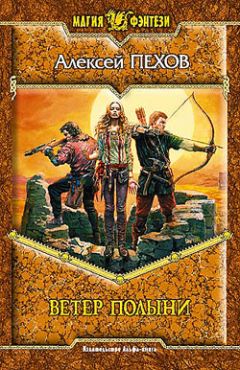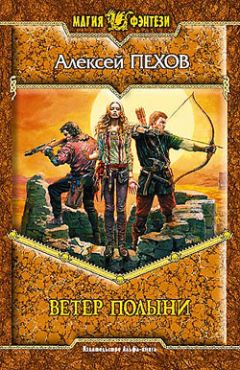Амин Маалуф - Лев Африканский
ГОД ШЕРИФА АХМЕДА ХРОМОГО
917 Хиджры (31 марта 1511 — 18 марта 1512)
В этом году, как и ожидалось, султан Феса и шериф Ахмед каждый со своей стороны предприняли наступательные действия против португальцев; первый пытался завладеть Танжером, второй — освободить Агадир. И оба были отброшены, понесли тяжелые потери, о чем не найдешь и следа в написанных в их честь поэмах.
Я присутствовал при этих событиях, и каждый день записывал свои впечатления. Перечитывая свои записи в Риме по прошествии нескольких лет, я поразился тому, что ни единой строки не посвятил тому, как разворачивались сами битвы, мое внимание было приковано к поведению предводителей и их окружения перед лицом поражения, которое нимало меня удивило, хотя пребывание при дворе и излечило от простодушного взгляда на многие вещи. Я приведу здесь для примера небольшой фрагмент своих записей:
События предпоследнего дня месяца рабих-авваля 917 года Хиджры, соответствующего среде 26 июня 1511 года от Р.Х.
Трупы трех сотен мучеников, павших под Танжером, доставлены в лагерь. Дабы избежать надрывающего душу зрелища, я прохожу в шатер султана, которого застаю беседующим с хранителем королевской печати. Государь подзывает меня к себе: «Послушай, что наш канцлер думает об этом дне!» Тот высказывает такое мнение: «Я говорил нашему господину, что то, что произошло, не так уж плохо, мы показали мусульманам, как преданы делу священной войны, и в то же время не допустили, чтобы португальцы почувствовали себя столь истерзанными, чтобы попытаться мстить нам». Я киваю головой, словно разделяю его взгляды, и спрашиваю: «А правда ли, что потери с нашей стороны исчисляются сотнями?» Уловив нотку иронии или вызова, канцлер умолкает, а в разговор вступает сам государь: «Среди павших лишь небольшое количество конников. Прочие — пехотинцы, голодранцы, деревенщина, каких в моем королевстве сотни тысяч и даже больше, я никогда не смог бы вооружить их всех!» Тон его то ли беззаботный, то ли веселый. Под каким-то предлогом я откланиваюсь и покидаю шатер. Снаружи, при свете факела, вокруг одного трупа, только что доставленного с поля боя, собрались воины. Завидя меня, один пожилой пехотинец с пламенеющей бородой подходит ко мне: «Скажи султану, пусть не оплакивает тех, что умерли, награда ждет их в день Страшного Суда». Он плачет, голос его пресекается: «Умер мой старший сын, я готов последовать за ним в Рай, как только мой повелитель прикажет мне!» Он цепляется за мои рукава, его судорожно сжатые кулаки говорят совсем иное, нежели его уста. Стражник просит его не досаждать советнику султана; старик со стоном исчезает. Я иду к себе.
Несколькими днями позже мне предстояло отправиться в Сус к Ахмеду. Я уже побывал у него в начале года с предложением о замирении, исходящим от султана; на этот раз хозяин Феса желал довести до сведения Хромого, что португальцы понесли большие потери, чем мы, и что сюзерен милостью Божией жив и здоров. Когда я добрался до лагеря Хромого, тот как раз развернул осаду Агадира, и его люди были полны воодушевления. Многие из них стекались к нам со всех уголков Магриба, вливались в его отряды прямо со школьных скамей и призывали мученическую смерть, как иные призывают неведомую невесту.
Прошло три дня, битва не утихала, умы были разгорячены кровью, местью, жертвенностью. Как вдруг, ко всеобщему изумлению, Ахмед повелел снять осаду. Один юный оранец, вздумавший вслух критиковать приказ об отступлении, был немедля обезглавлен. Поскольку я тоже был удивлен той легкостью, с какой Хромой отступился от собственных планов, я попросил его разъяснить мне его тактику, и он, пожав плечами, бросил:
— Хочешь лезть в политику, вести переговоры с сильными мира сего, научись презирать видимую сторону вещей.
Его откровенный смех напомнил мне наши нескончаемые споры в медресе. Поскольку мы были одни, я поставил вопрос ребром. И он не поленился ответить мне:
— Жители этих краев хотели избавиться от португальцев, захвативших Агадир и всю прилегающую к нему равнину и не дающих им возможности возделывать поля. Султан Феса далеко, султан Марракеша носа не кажет из своего дворца, разве что ради охоты, вот они и обратились ко мне, собрали сумму, необходимую для экипировки пяти сотен всадников и нескольких тысяч пехотинцев. В мою задачу входило сделать попытку отвоевать Агадир, но не овладеть им, ведь тогда я бы потерял половину своего войска, а что еще хуже — был бы вынужден надолго застрять здесь с остатками войска, защищая город от атак португальцев. У меня иная цель: поднять и объединить весь Магриб, хитростью ли, силой ли шпаги, и повести его на борьбу с захватчиками.
Я так сжал кулаки, что раздался хруст; зная, что отвечать нельзя, все же не смог удержаться:
— Итак, — начал я, растягивая слова так, будто пытался понять, — ты хочешь одержать верх над португальцами, но войска свои ты бросишь не против них: ты нуждаешься во всех этих людях, которые откликнулись на твой призыв к священной войне, чтобы завоевать Фес, Мекнес, Марракеш!
Ахмед пропустил мимо ушей прозвучавший в моих словах сарказм и обнял меня за плечи:
— Бога ради, Хасан, ты как будто не осознаешь, что происходит! Весь Магриб поднялся. Династии скоро исчезнут, провинции будут опустошены, города стерты с лица земли. Взгляни на меня, коснись моих рук, бороды, тюрбана, ибо завтра ты уже не посмеешь глядеть мне в глаза или дотрагиваться до меня. По моей воле летят головы, мое имя заставляет дрожать обитателей здешних мест. Вскоре весь край будет у моих ног, и настанет день, когда ты расскажешь своим детям, что был дружен с шерифом Ахмедом Хромым, что, он приходил в твой дом и беспокоился о судьбе твоей сестры. Сам я уже об этом не вспомню.
Нас обоих била дрожь, его от бешенства и нетерпения, меня — от страха. Я чувствовал, что надо мной нависла угроза, ведь будучи знакомым с ним задолго до того, как пробил час его славы, я становился как бы его собственностью, такой же милой сердцу, презираемой и ненавидимой, каким, например, для меня стал мой старый белый плащ, латаный-перелатаный, в тот день, когда я разбогател.
И потому я понял: настала пора держаться подальше от этого человека, поскольку нам с ним уже более не говорить на равных.
* * *К концу этого года произошло одно событие, подробности которого стали мне известны лишь спустя какое-то время и которое оказало серьезное влияние на дальнейшую судьбу моей семьи. Я рассказываю о нем так, как удалось воспроизвести его по чужим рассказам, не опуская ни одной детали и оставляя Всевышнему право провести грань между преступлением и наказанием.
Зеруали побывал паломником в Мекке, как ему было велено, а затем отправился в свои родные края — горы Бени Зеруаль в Рифе, чтобы провести там остаток дней изгнания. Возвращался он в эти места не без опаски, ведь в прошлом совершил там столько неправедного, и потому предварительно вступил в переговоры с главами родовых кланов, кое-кого одарил деньгами, а в дорогу отправился в окружении четырех десятков вооруженных охранников, а также пригласив ехать с собой двоюродного брата фесского султана, спившегося, промотавшего свое состояние человека, надеясь внушить горцам мысль, что он, Зеруали, все еще в милости государя.
Прежде чем достигнуть Бени Зеруаль, его каравану предстояло пересечь территорию Бени Валид. И вот там, на скалистой тропе между двумя деревушками, в которых проживали пастухи, им встретилась старуха с протянутой рукой, вся в черном. Когда Зеруали на лошади, со следовавшим за ним рабом, державшим огромный зонт, приблизился к нищенке, она сделала шаг в его сторону и стала жалобно просить у него милостыню. Охранник крикнул: «Прочь с дороги!», но Зеруали, заботясь о восстановлении своей репутации в этих местах, вынул из кошелька несколько золотых монет и протянул старухе, ожидая, что та благодарно примет их. Однако произошло то, чего он никак не ожидал: в мгновение ока старуха ухватила Зеруали за запястье и резко рванула на себя. Он свалился с лошади — одна его нога застряла в стремени — и повис вниз головой, тюрбан касался земли, а к горлу был приставлен нож.
— Прикажи своим людям не двигаться! — рявкнула нищенка мужским голосом.
Зеруали не посмел ослушаться.
— Вели им отправляться в ближайшую деревню!
Несколько минут спустя на тропе остались лишь лошадь и два неподвижно застывших человека, один из которых держал в руках нож. Не сразу двинулись они в путь. Разбойник помог Зеруали принять вертикальное положение и, сойдя с дороги, повел его пешком в горы, где и исчез с ним, словно дикий зверь с добычей в зубах. И только там назвал себя своей жертве.
Больше трех лет прошло с тех пор, как Харун поселился в горах Бени Валид под защитой местных жителей. Что подтолкнуло его поступить подобно разбойнику? Единственно ли жажда мести или страх перед появлением заклятого врага в этих местах, где тот мог вновь взяться за старое, притеснять Мариам и двух сыновей, которых она родила Харуну? В любом случае он действовал как мститель.