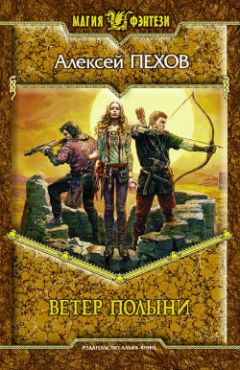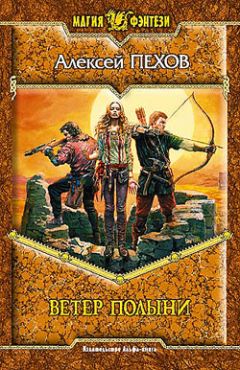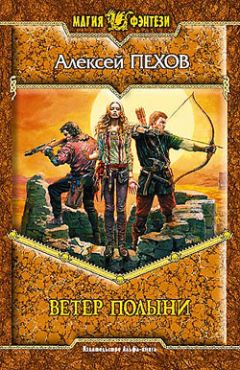Амин Маалуф - Лев Африканский
Поскольку других дел в Тефзе у меня не было, я засобирался домой. Но, словно любовница темной ночью, удача решила не выпускать меня из своих рук. На следующий день снова явились торговцы, предлагая мне кто индиго[31], кто мускус, кто рабов, кто кожу и кордуанские сафьяны, и каждый делал десятипроцентную скидку. Мне пришлось докупить четыре десятка мулов, чтобы все это доставить в Фес. В голове у меня была круговерть цифр — выходило, что богатство пришло ко мне с первого же моего дела.
На третий день моего пребывания в Тефзе наблюдатели возвестили о подходе к городу армии Феса. Она насчитывала две тысячи всадников легкой кавалерии, пятьсот арбалетчиков, двести конников, вооруженных пращей. Завидя их, испуганные жители решили вступить с ними в переговоры. А поскольку я был единственным фессцем, находящимся в их городе, меня и упросили быть посредником, что, признаюсь, показалось мне весьма занятным. С первого же взгляда командующий армией проникся ко мне дружескими чувствами. Это был образованный, утонченный человек, облеченный властью исполнить самую незавидную из миссий: выдать город жаждущему отмщения противоположному клану. Я попытался отговорить его от этого.
— Эти изгнанники — предатели. Сегодня они выдали город султану, завтра выдадут его врагам. Лучше договариваться с храбрыми людьми, знающими цену преданности и жертвенности, — внушал я ему.
В его глазах я прочел, что он склоняется в мою сторону, однако полученный им приказ был однозначным: овладеть городом, покарать тех, кто восстанет против султана, и передать власть в городе главе изгнанного клана, оставив при нем гарнизон. Но от одного довода он все же не смог отмахнуться.
— Сколько рассчитывает получить за свое покровительство султан?
— Изгнанный клан предложил двадцать тысяч динар в год.
Я быстро подсчитал в уме и сделал свое предложение:
— Городской совет состоит из трех десятков почтенных граждан, к которым следует добавить дюжину богатых торговцев-евреев. Если каждый из них заплатит по две тысячи динар, это составит восемьдесят четыре тысячи…
Офицер перебил меня:
— Годовой доход от всего королевства не дотягивает до трехсот тысяч динар. Как же городку вроде этого собрать почти треть этой суммы?
— Дело в том, что в этих краях есть богатства, о которых чужестранцу не догадаться, жители скрывают их и не стремятся приумножать, боясь, что правители обдерут их как липу. Отчего здешних евреев обвиняют в скупости, как ты думаешь? Оттого что самый малый расход или хвастовство поставят их жизнь и благосостояние под угрозу. По той же причине большое количество наших городов хиреет, а королевство в целом беднеет.
Будучи представителем султана, мой собеседник не мог позволить мне вести подобные речи в его присутствии и попросил меня перейти к делу.
— Если ты пообещаешь совету Тефзы жизнь и уважение к обычаям их города, я берусь убедить их в необходимости заплатить в казну.
Заручившись его словом, я отправился к членам совета. Я заявил им, что из Феса пришел приказ с печатью султана о безотлагательной расправе над всеми, кто держит власть в городе. Они заплакали, запричитали, но два дня спустя восемьдесят четыре тысячи динар были положены к ногам командующего. Дотоле мне не доводилось видеть такого количества золота, а позже из уст самого султана я узнал, что ни он, ни его отец никогда еще не располагали такими средствами.
* * *Покидая Тефзу, я получил от горожан, счастливых, что избежали неминуемой гибели, ценные подарки, а также некоторую сумму от командующего султанскими войсками, обещавшего в придачу рассказать своему господину, какую роль я сыграл в этом деле. Он выделил также дюжину воинов для охраны моего каравана по дороге в Фес.
Добравшись до Феса, я, не заходя домой, прямиком отправился к мессиру де Марино: отдал ему заказанный им товар, вернул слуг, лошадь и мулов, а также преподнес подарки на сумму в двести динар, а после без утайки поведал ему о приключившемся со мной, показав все, что удалось приобрести на собственные средства. Он оценил привезенный мною товар минимум в пятнадцать тысяч динар.
— Мне потребовалось тридцать лет, чтобы собрать такую сумму, — молвил он без тени зависти или ревности.
У меня вдруг закружилась голова и появилось ощущение, что весь мир в моей власти, что больше ничто мне не нужно, я ни в ком не нуждаюсь, и отныне удача всегда будет повиноваться мне. Меня охватило ощущение полета. Прощаясь со мной, генуэзец долго жал мне руку, слегка склонившись вперед, я же стоял прямо с высоко поднятой головой и задранным носом. Старик долго держал мою руку в своей, дольше обычного, а затем, не выпрямляясь, заглянул мне в глаза:
— Удача улыбнулась тебе, мой юный друг, и я радуюсь за тебя, словно ты мой сын. Но будь начеку: богатство и власть — враги здравого смысла. Когда ты смотришь на пшеничное поле, то видишь: иные колосья стоят прямо, а другие гнутся, не правда ли? Это оттого, что первые пусты! Сохрани же в себе то смирение, которое привело тебя ко мне и открыло тебе по воле Всевышнего пути удачи.
* * *В этот год кастильцы предприняли самую мощную атаку на Магриб, которая когда-либо ими осуществлялась. Два главных города побережья были ими захвачены: Оран — в мохарраме. Буджия — в рамадане.
Триполи Берберийскому предстояло пасть в следующем году.
Ни один из этих городов с тех пор так и не был отвоеван мусульманами.
ГОД ДВУХ ДВОРЦОВ
916 Хиджры (10 апреля 1510 — 30 марта 1511)
Я розы привил ланитам твоим,
Улыбку взрастил на устах.
Так будь же послушна веленьям моим
И помни негласный Устав:
Плоды достаются тому, кто сажал,
Кто сеял, тот и пожал.
Отныне у меня был свой придворный поэт, охочий до моих винных погребов, моих служанок и моего золота, скорый на хвалебные оды в честь моих гостей и в честь меня самого, при каждом удобном случае: празднике, возвращении каравана либо обычной трапезы в кругу друзей, родных, подчиненных, купцов, бывших проездом улемов, каменщиков, возводивших мой дворец.
После возвращения из Тефзы мое богатство стало расти как на дрожжах, мои торговые представители разъезжали по всей Африке от Бедиса до Сиджилмасы, от Тлемсена до Марракеша с грузом фиников, индиго, хны, растительного масла и тканей; сам же я покидал дом лишь ради очень крупных и важных заказов. Остальное время я ворочал делами из своего дивана и с тростью в руке обходил строительство моего дворца, ведущееся на холме, неподалеку от дома дяди, в котором я стал полноправным хозяином после рождения дочери и который с каждым днем казался мне все более тесным, скромным и недостойным моего положения. Я с нетерпением ждал дня, когда смогу переехать в свой великолепный, неподражаемый дворец, для возведения и украшения которого я нанял лучших мастеров и ремесленников, поручив им довести до совершенства каждую из моих дорогостоящих прихотей: резные деревянные потолки, выложенные мозаикой арки, фонтаны из черного мрамора, — не считаясь с затратами. Если какая-нибудь цена и заставляла меня иной раз задуматься, мой поэт был тут как тут:
«Но что же есть мудрость в мои двадцать лет?»
«Отринь ее вовсе», — мудрец дал совет.
Вот уж поистине: он чеканил свои рифмы из моего золота.
День закладки дворца стал одним из самых торжественных в моей жизни. На закате я отправился со свитой к месту постройки и заложил в фундамент будущего здания, с четырех сторон, ценные талисманы и локоны с головы моей дочери. Я вдруг перестал чураться магии и предрассудков, что в первую очередь удивляло меня самого. По-видимому, это удел богатых, облеченных властью людей: сознавая, что их благосостояние в меньшей степени зиждется на их заслугах, чем на превратностях судьбы, они принимаются обхаживать судьбу, словно любовницу, и поклоняться ей как идеалу.
По ночам в доме Кхали не смолкала музыка — для этого был нанят андалузский оркестр; взоры присутствующих услаждали плясуньи — сплошь рабыни, двух из которых пришлось купить с этой целью. Хибе я запретил танцевать, поскольку с Томбукту не мог решиться выставить на всеобщее обозрение ее неотразимые чары.
Я усадил ее рядом с собой на самую мягкую из подушек и обнял; Фатима, как и было положено достопочтенной супруге, рано ушла спать.
Я был счастлив видеть Хибу в добром расположении духа. Впервые за долгие месяцы к ней вернулось веселое и беззаботное настроение, она тяжело пережила рождение моей дочери. Однажды ночью, войдя к ней, я застал ее вытирающей слезу концом платка; я стал гладить ее по голове, она же ласково, но твердо отвела мою руку, прошептав дрогнувшим голосом, которого я никогда прежде не слышал: