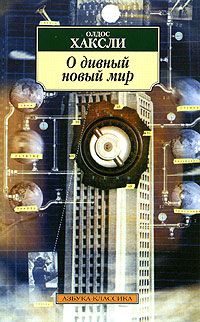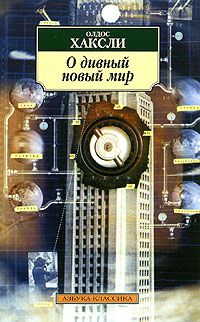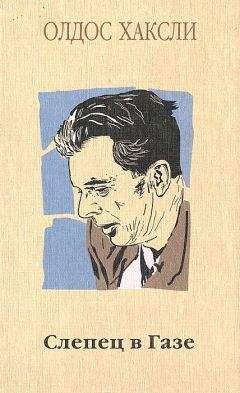Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
Я же, наоборот, не умел танцевать и не смог научиться даже в доме сеньорит Луазо, шести родных сестер, инвалидов от рождения, которые тем не менее давали уроки хороших танцев, не поднимаясь со своих кресел. Мой отец, который никогда не был нечувствителен к славе, подошел ко мне с новым видением. Впервые между нами состоялся многочасовой разговор. Мы едва знали друг друга. На самом деле, как видно из сегодняшнего дня, я прожил с моими родителями, в общем, чуть более трех лет, суммируя годы в Аракатаке, Барранкилье, Картахене, Синее и Сукре. Это был очень благодатный опыт, позволивший узнать их лучше. Мама сказала мне об этом: «Как хорошо, что ты стал другом отца». Через несколько дней, когда готовила кофе на кухне, она добавила: «Отец очень горд тобой».
На следующий день она разбудила меня, подойдя на цыпочках, и шепнула мне на ухо: «У отца есть сюрприз для тебя». Действительно, когда я спустился завтракать, он сам сообщил мне с торжественной выразительностью в присутствии всех:
— Собирай всю свою херню, ты едешь в Боготу.
Первым впечатлением было большое разочарование, поскольку то, чего мне хотелось тогда, было продолжать тонуть в нескончаемой гулянке. Но наивность восторжествовала. С одеждой для горной местности не было проблем. У моего отца было два костюма: черный костюм из шевиота и еще вельветовый, и ни один не сходился у него на поясе. Так что мы пошли к Педро Леону Росалесу, портному-чудеснику, и он их подладил по моему размеру. Мама купила мне к тому же пальто из верблюжьей шерсти одного покойного сенатора. Когда я примерял его дома, моя родная сестра Лихия, которая была ясновидящей от природы, предостерегла меня тайком, что призрак сенатора блуждал по ночам по его дому в этом пальто. Я не обратил на это внимания, ко перестал его носить после того, как надел пальто в Боготе и увидел себя в зеркале с лицом покойного сенатора. Я отдал его в залог за десять песо в ломбард и не выкупил.
Домашняя атмосфера улучшилась настолько, что я едва не плакал во время прощания, но план был выполнен без всяких сентиментальностей. Во вторую неделю января я сел в Маганге на «Давида Аранго», корабль с вымпелом судовой компании Колумбии, после того как прожил ночь свободного человека. Моим соседом по каюте был ангел двадцати двух фунтов с полностью безволосым телом. Он носил незаконно присвоенное имя Джека Потрошителя и был последним, оставшимся в живых из рода мастеров, изготовляющих ножи, из цирка Малой Азии. На первый взгляд мне показалось, что он способен задушить меня, пока я спал, но в последующие дни я понял, что он был только тем, кем казался: огромным ребенком с сердцем, которое не помещалось у него в теле. В первый вечер был официальный праздник с оркестром и праздничным ужином, но я убежал на палубу, созерцал в последний раз огни мира, который пытался забыть без сожаления, и почти с наслаждением проплакал до рассвета. Сегодня я осмелюсь сказать, что единственное, из-за чего я бы хотел вновь стать ребенком, — это чтобы насладиться еще раз той поездкой. Я должен был проделать этот путь туда и обратно несколько раз в течение четырех лет, которые мне оставались в старших классах средней школы, и еще двух лет университета, и каждый раз я изучал жизнь глубже и лучше, чем в школе. В сезон, когда вода была высокой, подъем длился пять дней из Барранкильи в Пуэрто-Сальгар, откуда еще один день на поезде до Боготы. Во времена засухи, которые были самыми трудными для путешествия, если не торопиться, плавание могло продлиться до трех недель.
У кораблей были простые и непосредственные имена: «Атлантико», «Медельин», «Капитан де Каро», «Давид Аранго». Их капитаны, как и капитаны «Конрада», были властными и добродушными, ели как дикари и не умели спать одни в своих королевских каютах. Путешествия были неторопливыми и удивительными. Мы, пассажиры, сидели на палубах целыми днями, чтобы созерцать забытые селения по берегам, где лежали аллигаторы с открытыми пастями в ожидании доверчивых бабочек, или стаи цапель, поднимающихся в полет, испугавшись волны от корабля, домашних уток на внутренних болотах, ламантинов, которые пели на огромных пляжах, пока кормили своих детенышей. Во время всей поездки ты просыпался на рассвете, оглушенный криком обезьян и попугаев. Часто прерывала сиесту тошнотворная вонь от утопленной коровы, застывшей на водной поверхности, с одиноким ястребом, задержавшимся на брюхе мертвого животного.
Сейчас это редкость, что кто-то знает кого-то в самолете. На речных кораблях мы, студенты, в конце концов становились одной семьей, потому что договаривались каждый год ездить вместе. Иногда корабль садился на мель дней на пятнадцать на песчаной косе. Но никто не тревожился, потому что праздник продолжался и письмо капитана с оттиском герба его кольца служило оправданием опоздания в колледж.
С первого же дня мое внимание привлек самый молодой из дружеской группы, который играл на большом аккордеоне как во сне, прогуливаясь целыми днями по палубе первого класса. Я не смог перенести зависти, ведь после того как я услышал первых аккордеонистов Франсиско Эль Омбре во время праздника 20 июля в Аракатаке, я настоял на том, чтобы мой дедушка купил мне аккордеон, но бабушка перебила нас шуткой, что аккордеон — это инструмент деревенщин. Примерно через тридцать лет мне показалось, что я узнал элегантного аккордеониста с корабля на мировом конгрессе неврологов в Париже. Время сделало свое дело: он оставил богемную бороду, и одежда стала больше примерно на два размера, но воспоминания о его мастерстве были настолько живыми, что я не мог ошибиться. Тем не менее его реакция была крайне категоричной и резкой, когда я его спросил, не представившись:
— Как аккордеон?
Он мне ответил удивленно-пренебрежительно:
— Не знаю, о чем вы говорите.
Я почувствовал, что подо мной разверзлась земля, и принес ему свои скромные извинения из-за того, что спутал его с одним студентом, который играл на аккордеоне, на корабле «Давид Аранго» в начале января 1944 года. Тогда он просиял от воспоминания. Это был колумбиец Саломон Хаким, один из великих неврологов этого мира. Разочарование было в том, что он поменял аккордеон на медицинские технологии.
Другой пассажир привлек мое внимание своей сдержанностью. Он был молодой, здоровый, румяный, в близоруких очках и с преждевременной опрятной лысиной. Он мне показался прекрасным типом туриста — франта. С первого же дня он монополизировал самое удобное кресло, положил несколько стопок новых книг на столик и читал, не поднимаясь, с утра и до тех пор, пока его не отвлекало вечернее веселье. Каждый день он появлялся в столовой в новой пляжной в цветочек рубашке и завтракал, обедал и ужинал, читая в одиночестве за самым отдаленным столиком. Я не думаю, что он здоровался с кем-либо. Я его окрестил для себя «ненасытным читателем».
Как я ни старался, но мне не удалось побороть искушение установить, что же за книги он читает. Большинство были мрачными трактатами по общественному праву, которые он читал по утрам, подчеркивая и делая заметки на полях. С прохладой вечера он читал романы. Среди них один, который меня ошеломил: «Двойник» Достоевского, его я попытался украсть, но не смог, в библиотеке в Барранкилье. Я обезумел, прочитав его. Настолько, что захотел попросить его одолжить на время, но мне не хватило духу. В один из дней он появился с неведомым для меня «Большим Мольном», ставшим скоро одним из моих любимых шедевров. Зато только я вез книги, уже прочитанные и неповторимые: «Херомин» отца Коломы, который я не прочитал никогда; «Пучину» Хосе Эустасио Риверы; «От Апеннин до Анд» Эдмондо де Амичиса и словарь дедушки, который я частями почитывал. Ненасытному читателю же, наоборот, не хватало времени на такое количество книг. То, что я хочу сказать и не сказал, что тогда я готов был все отдать, чтобы занять его место.
Третьим пассажиром, без сомнения, был Джек Потрошитель, мой сосед по комнате, который говорил во сне на хамском языке целыми часами. Его длинные монологи имели природу странноватой мелодии, дававшей новый фон моим утренним чтениям. Он мне сказал, что не отдавал себе отчета, не знал, какой язык это мог быть, на каком он видел сны, потому что еще ребенком он понимал канатоходцев своего цирка на шести азиатских диалектах, но забыл их, когда умерла его мать. У него остался только польский, который был его родным языком, но мы смогли установить, что во сне он говорил не на польском языке. Я не помню существа более очаровательного, чем он в то время, когда смазывал и проверял лезвия своих зловещих ножей розовым языком.
Его единственная проблема случилась в первый день в столовой, когда он предъявил претензии официантам, что он не сможет выжить в поездке, если ему не будут подавать четыре порции суточных норм еды. Боцман ему объяснил, что не возражает, если он за порции будет платить дополнительно со специальной скидкой. В ответ он сослался на то, что путешествовал по морям мира и везде гуманно признавали его право не умирать с голоду. Дело дошло до капитана, который решил очень по-колумбийски, чтобы ему подавали две порции и чтобы официанты как бы невзначай, по рассеянности, давали ему две порции добавки. Кроме того, он справлялся собственными силами, подъедая за соседями по столу и подхватывая вилкой из тарелок некоторых потерявших аппетит путешественников, которые наслаждались его остротами. Нужно было это видеть, чтобы поверить в достоверность.