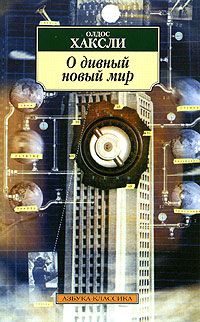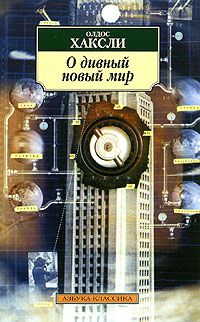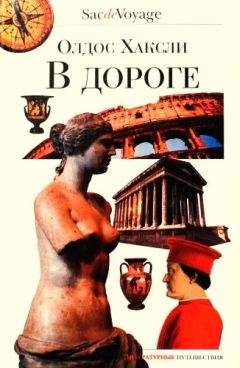Олдос Хаксли - Слепец в Газе
— «Да, сэр, это моя девчонка. Нет, сэр…» — Джерри перестал мурлыкать мелодию. — Вчера вечером я выиграл шестьдесят фунтов в покер, — сказал он. — Неплохо, правда?
Она подняла подбородок и улыбнулась ему, кивнув с молчаливым восторгом. Хорошо, хорошо, все было на удивление хорошо.
— Могу вам признаться, — говорил Стейтс, — что я с превеликим удовольствием сочиняю рекламные объявления. — Его мимические мышцы работали так, что у собеседников возникла иллюзия присутствия в анатомическом театре. — Особенно те, что касаются нечистого дыхания или запаха пота.
— Отвратительно! — содрогнулась миссис Эмберли. — Мерзко. Существует лишь один викторианский запрет, который я соблюдаю, — это запрет упоминать все эти вещи.
— Именно поэтому так занятно говорить о них, — заявил Стейтс, направив на Мери пронзительный взор прищуренных глаз. — Заставлять людей осознать их физическую мерзость. В этом вся прелесть подобных объявлений. Вместе с осознанием приходит потрясение.
— И приносит неплохой доход, — вмешался Энтони. — Ты забыл упомянуть о прибылях.
Стейтс пожал плечами.
— Они случаются нерегулярно, — отреагировал он, и Энтони стало ясно, что он говорил правду. Для Стейтса прибыли не имели никакого значения, он считал их случайными и преходящими. — Разрушать защищающую вас условность, — продолжал он дальше, снова обращаясь к Мери, — весьма и весьма занятно.
Оставить вас беззащитными перед осознанием того факта, что вы не можете обойтись без себе подобных, но стоит вам попасть в их общество, как вас начинает тошнить.
Глава 19
7 июля 1912 г.
Миссис Фокс просматривала книжку, куда заносила намеченные дела. Серия заседаний комитета, визитов по району, дней, которые надо будет провести в игровой комнате калек, заполняли страницы. В промежутках между этим предстояли телефонные звонки, ужины у викария, обеды в Лондоне. И все же (она знала это заранее) наступившее лето не принесет ничего, кроме душевной пустоты. Какой бы насыщенной ни была ее деятельность, время в отсутствие Брайана казалось таким, словно из него выкачали воздух. В былые времена каждое лето было заполненным. Но в этот июль, пробыв неделю или две дома, Брайан собирался поехать в Германию, чтобы изучать там язык. Без этого ему было не обойтись. Она знала, что его отъезд необходим, и непритворно радовалась за него, но боль, зародившаяся в ее душе, выплеснулась наружу в момент расставания. Она даже пожалела о том, что не эгоистка и не может насильно удержать его дома.
— Завтра в это время, — произнесла она, когда Брайан зашел в комнату, — ты будешь проезжать по Лондону в направлении Ливерпуль-стрит[180].
Он кивнул и, не говоря ни слова, положил руку на плечо матери, нагнулся и поцеловал ее.
Миссис Фокс подняла глаза и улыбнулась. Затем, забыв на секунду о том, что дала себе слово ничего не говорить ему о своих чувствах, произнесла:
— Боюсь, что остаток лета будет пустым и печальным. — Сказала и тотчас принялась мысленно ругать себя за то, что ее подавленное настроение столь явно отразилось на ее лице; но даже укоряя себя, она частью своего существа радовалась его сыновней любви и бережному отношению Брайана к ее чувствам. — Если, конечно, ты не скрасишь его своими письмами, — добавила она, стараясь этим уточнением сгладить свою оплошность. — Ты ведь будешь писать, правда?
— К-к-к… Естественно. Я н-напишу.
Миссис Фокс предложила прогуляться; или, может быть, лучше покататься в двухколесном экипаже? Брайан в смущении посмотрел на часы.
— Н-но у м-меня обед с Терсли, — в некоторой растерянности ответил он. — Н-на поездку н-не хв-в-в-в м-мало в-в-време-ни. — Как он ненавидел эти вынужденные иносказания.
— Как же глупо с моей стороны! — воскликнула миссис Фокс. — Я совсем забыла про твой обед. — Она действительно забыла, и эта внезапная, только что возникшая мысль о том, что эти долгие часы последнего дня, когда они еще будут вместе, ей придется провести без него, очень больно ранила миссис Фокс. Ей стоило немалых усилий не показать сыну свою нестерпимую боль ни мимикой, ни голосом. — Но мы успеем хотя бы прогуляться в саду, да, Брайан?
Они спустились в зеленую аллею, обсаженную травой. День был пасмурный, но теплый, почти знойный. Под серым небом цветы выглядели неестественно ярко. В молчании мать и сын дошли до конца аллеи и повернули обратно к дому.
— Я рада, что это Джоан, — сказала миссис Фокс, — и я рада, что ты внимателен к ней. Хотя, конечно, жаль, что ты повстречал ее именно в тот момент. Меня волнует то, что пройдет еще немало времени, пока ты сможешь жениться.
Брайан подтвердил сказанное ею кивком головы.
— Любовь должна быть испытана временем, — продолжала она. — Тяжело, но, как правило, это приносит счастье. И тем не менее, — здесь ее голос взволнованно задрожал, — я рада, что так случилось… Рада, — повторила она. — Потому что я верю в любовь. — Она верила в нее, как бедняки верят в вечную жизнь после смерти, в вечную славу и покой, потому что никогда не знала, что это такое. Она уважала своего мужа, восхищалась им за все им достигнутое, любила его за то, что она могла любить в нем, и по-матерински жалела его за некоторые слабости. Но между ними не было преображающей страсти, и его чисто плотское понимание любви всегда было для нее не более чем гневом злого человека, который едва ли можно было вынести. Она никогда не испытывала к нему того, что называют Любовью. Именно поэтому вера в ее существование была настолько сильна. Любовь должна была существовать для того, чтобы болезненное равновесие ее личного опыта не могло быть нечаянно нарушено. Кроме того, любовь прославляли поэты, она существовала и была восхитительной, святой, она была откровением. — Это какая-то особая благодать, — продолжала она, — которую ниспосылает Господь в помощь нам, чтобы сделать нас лучше и сильнее, чтобы избавить нас от лукавого. Говорить «нет» худшему легко, когда уже сказано «да» лучшему.
Легко, думал Брайан во время наступившей паузы, даже когда не сказал «да» лучшему. Женщине, которая подсела к их столику в «Кафе-консер», когда они с Энтони изучали французский в Гренобле[181] два года назад — такому искушению было нетрудно сопротивляться.
— Ти as I'air bien vicieux[182], — говорила она ему во время первой паузы. И затем Энтони: Il doit etre terrible avec les femmes, hein?[183] Вскоре после этого она предложила им проводить ее до дому. — Tons les deux, feu une petite cimie. Nous nous amuserons bien gentiment. On vous fera voir des chases droles. Toi qui es si vicieux — ca famusera[184].
Да нет, этому, конечно, не было трудно противиться, хотя тогда он еще и в глаза не видел Джоан и не знал о ее существовании. Настоящим искушением стало как раз не худшее, а лучшее. В Гренобле таким искушением стала литература. Et son vent re, et ses seins, cesgrcippes de met vigne… Elle se coula a mon cote, m'appela des norns les plus tend res et des noms les plus effroyablement grossiers, qui glissaienl sur ses levres en suaves murmures. Puis elle se tut et commenca a me donner ces baisers qu'elle sewed… [185]
Творения лучших стилистов оказались намного привлекательнее и, следовательно, опаснее, и им было гораздо труднее противиться, чем убогой реальности «Кафе-консер». А теперь, когда он сказал «да» самой лучшей из реальностей, тяга к худшему стала еще меньше, чем была, низкие искушения перестали даже отдаленно напоминать искушение. Искушение, подобное тому, которое явилось следствием самого лучшего. Для него было невозможно желать низкое, вульгарное, скотское создание «Кафе-консер». Но Джоан была прекрасной, Джоан была утонченной, Джоан разделяла его увлечения и именно поэтому была для него желанной. Просто потому, что она была лучшей из всех (и это было для него парадоксом, причем болезненным и неразрешимым), он желал ее неправедно, чувствуя плотскую страсть.
— Ты помнишь те строчки Мередита? — спросила миссис Фокс, нарушив молчание. Мередит был одним из ее любимых авторов. — Из «Леса», уточнила она, любовно сократив название стихотворения почти до условного обозначения. Она начала читать на память:
Любовь, вулкан огромный, изрыгает
Языки пламени из бездны к небесам[186].
— Любовь подобна философскому камню, — продолжала она. — Она не только овладевает нами, но и преображает нас. Переплавляет шлак в золото. Прах в эфир.
Брайан кивнул в знак согласия. «И все же, — думал он, — эти соблазнительные и безликие тела, созданные стилистами, приобрели черты Джоан. Вопреки любви, а может быть, как раз благодаря ей, суккубы теперь обросли плотью и стали называться реальными именами».
Часы на конюшне пробили двенадцать, и при первом же ударе из голубятни на фоне темной купы вязов бесшумно, словно снежные хлопья, выпорхнула стая голубей.