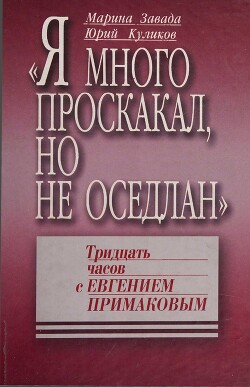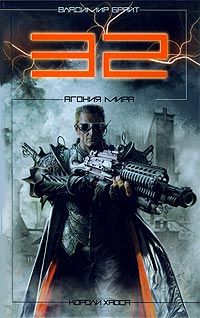Храни её - Андреа Жан-Батист
У меня не было конкретного плана. Возможно, я вернусь через месяц, а может, через два, и мы начнем все на равных, раз мы оба нанесли обиду, раз мы оба попрали нашу дружбу.
Я уехал, не зная, что возвращение займет больше пяти лет. Или, точнее, ведь дата моего возвращения выбиралась совсем не случайно, — тысяча девятьсот девяносто один день и семнадцать часов.
Где бы я ни жил — кроме этого монастыря, где я угасаю, и, конечно, Пьетра-д’Альба, — мне непременно хотелось отсрочить рассвет. Отодвинуть день, который скажет, что Виола не со мной, укрылась в привычном месте. Я всегда пил не ради удовольствия. Но и без отвращения, как все матросы, дрейфовавшие со мной в те ночи, шатаясь с палубы на палубу, люди-светлячки, горевшие все ярче с неизбежным приближением утреннего кораблекрушения. К счастью, от пьянства не умирают, или умирают не сразу, и на следующую ночь мы снова качались на его волнах. Ночи Флоренции и ночи Рима теперь сливаются в моей памяти. Ночи бесцельные, перемежающиеся днями без Виолы. Сточные канавы Рима воняли так же, как и во Флоренции. Только теперь я пользовался дорогой отдушкой.
Я злился на Виолу за то, что она создавала прорехи в нашей истории. За то, что отталкивала меня, отдаляла, а ведь мы были так близки, что и атом не проскочит. Я злился и не придумал лучшего способа проучить ее, чем уйти. Но теперь я сам чувствовал вину. Я ничуть не достойнее ее дружбы, чем она моей, раз я так с ней обошелся. Виола становилась моим отражением. Я ругал ее, бушевал и считал, что и она испытывает те же чувства на своем далеком плато, где апельсиновые деревья стоят в эту пору заиндевевшие от мороза. Те же поступки сгоряча, те же бессмысленные упреки. Мы оба были правы и уже не понимали, кто чье отражение. Я винил себя и еще больше — Виолу за то, что из-за нее винил себя. Я дал слово не видеться с ней, пока она не извинится. Зеркально и она, наверное, поклялась в том же, и оба мы по недомыслию ушли из жизни друг друга. Случилась адская спираль, трагикомический уроборос, где в порочном круге змея вечно кусает себя за хвост, и это единственный способ объяснить последующие годы.
Я приехал в Рим под белым солнцем, слепившим, не согревая. Моя мастерская располагалась по адресу виа деи Банки-Нуови, 28, примерно в пятнадцати минутах ходьбы от Ватикана — для меня, семенившего мелкими шажками, чуть больше. Мою улицу пересекала под прямым углом виа дельи Орсини. Я так и не узнал, обязана ли она своим названием моим благодетелям, — каждый раз, когда я спрашивал, они загадочно и самодовольно пожимали плечами. Мастерская выходила во двор, где, вытянувшись в струнку, меня ждали четверо учеников. Франческо появился через два дня после моего приезда, явно удивленный таким скоропалительным решением, причин которого он доискиваться не стал. Мрамор уже дожидался резца, и я приступил к выполнению первого заказа — святого Петра, получающего ключи от рая. Обтеску я поручил подмастерьям, а черновую обработку — Якопо, четырнадцатилетнему парню, который показался мне из них самым талантливым. Я звал его «малыш», но сам был старше на каких-то четыре года.
Моя квартира располагалась прямо над мастерской и площадью мало уступала вилле Орсини или «Гранд-отелю Бальони». Через несколько дней я заметил, что пространство угнетает меня, и мне доставили кровать с балдахином. Этот никому не нужный антиквариат позволил спать в объеме, более соответствующем моим пропорциям. Странное ложе, похожее на остров посреди пустой комнаты, под потолком, где побелка едва проступала сквозь копоть, принесло мне в дальнейшем некоторые любовные дивиденды. А один заказчик из Германии, как-то попавший в квартиру, охарактеризовал мою спальню так: «Антибаухаус, но все равно баухаус».
Параллельно с основным заказом я руководил реставрацией виллы Пия IV, построенной в эпоху Возрождения и гнездившейся под сенью собора Святого Петра. Задуманная как летняя резиденция пап, вилла какое-то время пустовала, перестраивалась и терпеливо ждала новой участи. Епископ Пачелли хотел превратить ее в место академических штудий, целиком посвятить науке, хотя кое-кто из его оппонентов в курии не одобрял такого плана, считая, что вся наука, потребная простому человеку, начинается с «В начале Господь сотворил небо и землю» и кончается словами «и увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».
В первый год я покидал мастерскую, только чтобы посетить какого-нибудь мастера, встретиться с поставщиком или пообедать с Франческо, что мы делали раз в месяц. Мы стали почти друзьями и называли друг друга Мимо и Франческо. В конце концов, нас объединяла Пьетра-д’Альба, и жизнь вдали от нее роднила нас еще больше. Франческо чем-то напоминал сестру: та же странная манера разговаривать, чуть наклонив голову вбок, и вдруг уноситься взглядом в неведомую даль. Казалось, это мечтательность двадцатитрехлетнего юноши, вот только Франческо не был мечтателем. Это была позиция орла, следящего с вершины ели за метаниями десятка мышей одновременно, угадывая их траектории, выбирая добычу на десять ходов вперед. В его голосе чувствовалась живая нить, острое лезвие, безболезненно отрезавшее ненужное. Он гасил ссоры, не повышая голоса. У меня на глазах перед ним склонялись самые тупые зверюги. Но ко мне он относился как к равному. И сегодня я могу сказать без бахвальства, что я и был ему ровней. Только один человек в мире на голову превосходил нас умом и смелостью замыслов, но имени этого человека мы никогда не произносили.
Через год после прибытия в Рим я наконец показал заказчику «Святого Петра, получающего ключи от рая».
Монсеньор Пачелли добрых десять минут ходил вокруг статуи. Я нервно ждал, четверо учеников строем стояли позади меня. Здесь, вблизи Ватикана, присутствие прелата не удивляло, но машина, ждавшая на улице, мощный оскал клыкастой решетки и необъяснимая аура, которую излучал Пачелли, вызвали небольшое столпотворение, несмотря на холодный ветер, прочесывавший Рим в том феврале 1924 года.
Пачелли несколько раз открывал рот что-то сказать и останавливался. Я понимал его чувства. Мой святой Петр не походил на то, что он имел в виду. Но какой смысл делать то, что все ожидают? Из моих флорентийских ночей, из хождений по питейным подвалам с их липкими от пива полами, откуда люди выбирались возродившимися или ногами вперед, я вынес легкую тягу к суициду — я имею в виду профессиональное бесстрашие, которое служило мне на протяжении всей карьеры.
В те ночи ничто не имело значения, главное — ярче гореть. Мы ничего не боялись, следующий день все стирал. Мой святой Петр не был тем щекастым и мудрым бородачом, которого видели повсюду. Внешне он напоминал Корнутто. Потому что он жил и мучился, как мучается человек, трижды предавший лучшего друга, и это предательство никто не давал ему забыть, о нем говорили круглый год во всех церквях мира. И ключ от рая он держал не так напыщенно, как другие.
— Ключ, — пробормотал наконец Пачелли. — Мне кажется или он его…
— Не кажется.
Святой Петр выронил ключ. Он еще не упал, но был где-то на полпути между протянутой ладонью, которая старалась его удержать, и землей. Ключ в падении скользнул по плащу, и я закрепил его с помощью почти невидимой металлической стяжки. Эффект был поразительным. Чтобы основать Свою церковь, Бог выбрал того, который трижды отрекся от Его Сына. Грешного человека. И я представил себе, что, если бы, например, Корнутто получил ключ от рая, он бы от неожиданности выпустил его из рук. Вместо восторженного святоши, вместо сытого и скучного пенсионера католичества, перед нами святой Петр, со страхом принимающий порученную миссию, но ключ тяжел для его старых рук, они не могут его удержать. Он смотрит на падающий ключ, он боится, что тот сломается, а его самого поразит громом небесным. Я без труда схватил это сложное, мучительное, сосредоточенное выражение лица. Мне тоже довелось увидеть, как падает нечто дорогое.
— Я не могу подарить это Кастель-Гандольфо, — сказал Пачелли.