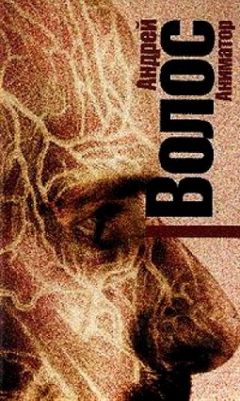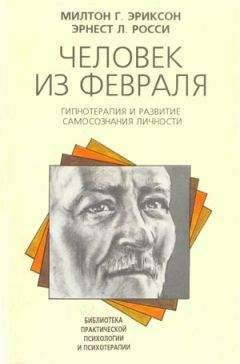Аниматор - Волос Андрей
Недаром же говорят: будь проще — и люди к тебе потянутся.
Все привыкли видеть нас вместе, поэтому когда она сгинула, я оказался перед необходимостью то и дело отвечать на вопрос «А где же
Клара?». Мне пришлось придумать байку, которая бы не требовала долгих объяснений. Теперь, по прошествии почти года, надежда на то, что она все-таки вернется, совсем угасла; но тогда я говорил всем, что Клара уехала (это было чистой правдой) во Францию на стажировку
(откуда мне знать, может быть, и в этом я был недалеко от истины?), и с тех пор придерживался этой версии. Постепенно к ее отсутствию привыкли, и уже редко кто вспоминал, как она, бывало, отплясывала здесь. Что делать — все проходит. А вот Игнат — поди ж ты! — не забывал. Землячество — великая сила.
На втором этаже было еще тихо. На рояле негромко тренькал какой-то парень из Семеновых лабухов, а ни самого Семена, ни, соответственно, его брамсолюбивого саксофона не наблюдалось.
Зато за угловым столиком сидела лаборантка Инга, благосклонно прислушиваясь к вдохновенному воркованию известного в Анимацентре человека — Володи Гарнецкого. Бутылка шампанского перед ними была почти пустой. Вообще, по всем признакам, дело у них шло на лад, так сказать, с опережением графика. Завидев меня, Инга лучезарно улыбнулась и помахала лилейной ручкой.
Надо было что-нибудь сделать в ответ — ножку, что ли, от рояля отломить или расколотить пару сервизов, — но я только сел за свой столик, а когда подошел Карим, тупо потребовал коньяку.
— А покушать, Сергей Александрович? — забеспокоился он. — Вы ж с утра не кушали. По вас видно.
— По вас, по вам… — проворчал я. — Ты на меня не смотри. Ладно.
Поесть тоже давай. Да побольше. Что сегодня?
Тем временем Инга поднялась и танцующей походкой удалилась в сторону дамской комнаты. Частично разобравшись со своими кулинарными желаниями, получив искомый коньяк, зелень и тарелку малосольной форели немедленно, я отправил озабоченного Карима на кухню за продолжением программы и поманил к себе (по праву старшего)
Гарнецкого. Гарнецкий охотно подошел и встал рядом, облокотившись о спинку стула и нахально ковыряя зубочисткой в своих образцовых зубах.
— Девушкой, смотрю, новой обзавелся, — сказал я, мощно зажевывая ломтем сладкой обитательницы хрустальных озер рюмку «Кизлярского». –
Поздравляю. Не молода для тебя?
— Нет, в самый раз. Ты же знаешь — чем моложе, тем лучше.
Я покачал головой.
— Ну знаешь, тоже до известного предела. Ты осторожней. С такими принципами и под статью можно залететь.
— В данном случае не грозит. А что, нравится?
— Видишь ли, Володя, ты еще молод, поэтому не все знаешь. Я открою тебе маленький секрет. Настоящим мужчинам нравятся все женщины. Тем более девушки. Помнишь Точеного? Так вот он — мир его праху — признался мне в день своего шестидесятилетия: совсем, говорит, недавно стал понимать, что женщины бывают двух типов: красивые и некрасивые. Улавливаешь?
— Улавливаю, — вздохнул он. — Короче говоря, Бармин, зелен виноград… Между прочим, жалуется на тебя.
— Да ну? — удивился я, наполняя рюмку. — Не может быть.
— Ага. Говорит, грубишь очень.
— Ишь ты, грублю… Ну замолви за меня словечко, если случай представится.
— А как же! Непременно представится! — обрадовался он, ретируясь. — Часика через полтора, думаю, и представится! Тьфу!
Так всегда — захочешь кому-нибудь настроение подпортить, так только сам еще больше расстроишься. Верно говорят: не рой другому яму…
Я терзал бедную рыбу, как будто вершил казнь.
Попытки подумать о чем-нибудь отвлеченном приводили к осточертевшим, но настойчивым размышлениям о многочисленных несовершенствах мира. А они, в свою очередь, снова возвращали меня к словам полковника
Добрынина. И все это вертелось по одному и тому же кругу, и проклятая жилка дрожала под горлом — как с цепи сорвалась. В голове метались какие-то обрывки — чего? мыслей? Нет, мыслями это клокотание нельзя было назвать. Это были волны беспокойства, даже страха; какие-то клочья слов — все больше вопросы и восклицания.
Утолив первый голод и насытив кровь алкоголем в достаточной мере, чтобы мозг перестал клокотать и содрогаться, я понял, что жизнь не кончилась. Жизнь не кончается.
И это несмотря на то, что она (жизнь) нелепа именно потому, что все в ней и всегда приходит к какому-нибудь воистину нелепому, прямо-таки идиотскому концу. Например, сама она — к смерти. Этого мало? Ладно, вот еще образчик. Николай Федорович Федоров, философ.
Справедливо ли его требование к нам, живым, не сметь забывать о мертвых — о тех, кто уже претерпел муки, испытал на себе произвол смерти и холодным прахом лег в ненасытную землю? Справедливо ли это требование? Да, оно справедливо. На каждом шагу мы видим, что люди признают это… Безумно ли его требование немедленно воскресить мертвых, ибо мир должен быть справедливым, а то, что они умерли, — несправедливо? Здравый человек ответит: да, это требование безумно!
Но здравый человек не способен подняться до этого безумия, нет; он неспособен к поэзии, он способен лишь к утилитарному пожиранию мертвечины — вот к чему он способен… Он не готов к отваге! Он боится отчаянного бесстрашия презирать очевидное!.. Боже мой, боже мой!.. Великий, великий старик!
И что же в итоге? Его всечеловеческий и вселенский зов должен был поднять нас к небесам. Поднял? — нет, всего лишь способствовал развитию аниматорской индустрии. Его гневный окрик должен был заставить человечество одуматься, расставить все по своим местам, установить, что в мире ценно, а что истинный прах. Установил? — хрена с маслом! Что вышло вместо этого? Да то, что скоро полковник
Добрынин тоже пройдет курсы какого-нибудь там фабошно-аниматорского усовершенствования. И научится анимировать живых, то есть читать в их душах и мыслях. И будет, как я почему-то подозреваю, читать именно то, что в полной мере отвечает сегодняшнему политическому моменту и как никогда нужно для укрепления власти и поддержания порядка…
Меня снова трясло.
Но вдруг хриплый голос саксофона коротко пролетел над уже довольно полным и шумным залом.
Семен! Родной мой, милый мой человек!
Откуда взялся? Я сижу почти у лестницы, а не углядел. Незаметно он как-то — по-ангельски — вознесся сюда, на второй этаж «Альпины». Вот же он — уже расчехлил инструмент… дуднул для пробы… или чтобы все услышали — дескать, вот он я, пришел уже… Теперь с подмастерьем-пианистом недовольно о чем-то рассуждает…
У меня слеза навернулась на левый глаз, и я помахал ему: Семен! Это я, Бармин! Мы с тобой одной крови. Мы с тобой аниматоры, да!..
Говорят, я даже чуточку одаренней! Но мало ли что говорят все эти придурки! Не обращаем внимания на их болтовню!.. Я тебя обожаю, я преклоняюсь пред тобой, Семен, потому что ты умеешь дудеть в дуду.
Ты бог дуды! Я плавлюсь от звука твоей кривой дуды, и все вокруг плавятся… Мне будет приятно, если ты махнешь в ответ, — махни,
Семен, я буду горд!..
Не заметил.
Но зато взял сакс, мундштук продул… протер… снова что-то проворчал. Лабух огрызнулся в ответ (ишь ты, дерзкий какой!).
Изготовился, согнулся, как все они гнутся, когда хотят показать, что, мол, сейчас рванет прямо из души (а это, между прочим, ни о чем не говорит — может, из души, может, из живота, может, еще откуда, — но у Семена точно из души!), лабух знакомо тренькнул разок-другой — я вздрогнул от радости! — и все, и меня повело, потому что я уже понял, что сейчас будет, — будет «Караван»! «Караван»!
И точно! — через секунду пошел! поплыл! закачались пески! понесло жарким ветром, выжимая слезы из моих пьяных глаз! Пошел! Пошел!..
Я не люблю, когда на соленый арахис тратят больше, чем на пиво.
Я люблю, когда все по-честному. Когда все соразмерно. И я понимал — это награда мне за этот длинный гадкий день… за то, что я сам устроил его таким длинным и гадким… и за то, что я все-таки хочу быть лучше!.. Другое дело — не получается, но хочу же!..