Фредерик Бегбедер - Французский роман
— Алло! Не волнуйся! Я все тебе расскажу. Нас с Поэтом арестовали, мы тридцать шесть часов просидели в камере, я не спал — всю ночь протрясся от холода и клаустрофобии, от меня разит, побегу сейчас кормить кошку, если она еще не протянула лапы. Нет, позвонить раньше не мог, телефон отобрали, разрешили всего один звонок, и я предупредил Дельфину, что не смогу вечером забрать из школы Хлою, ну что ты, дорогая, не бери в голову, все нормально, с прежней жизнью покончено, начинается новая. Ты придешь? И не забудь взять с собой руки, я хочу, чтобы ты меня к ним прибрала. По правде сказать, я тебя люблю. И еще, знаешь что? Возможно, я теперь стал мужчиной.
Глава 41
Нью-Йорк, 1981 или 1982
Перед отъездом в Гетари я провел неделю в Нью-Йорке. Как-то утром мне позвонил Джей Макинерни и сообщил, что сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре, на Девятой улице, в шесть часов утра, а виноват в этом я, потому что накануне именно я потащил его в «Беатрис Инн» и бросил там в дурной компании. Ничего, я уже привык, что все несчастья в мире происходят из-за меня, и не обижаюсь, я же католик. С другой стороны, я ведь провел 36 часов за решеткой, повторив опыт Джея из «Лунного парка». Поэтому предлагаю рассматривать его сломанную ногу как уникальный случай исполнения заповеди «око за око» при посредстве американской художественной литературы. Мы с ним иногда меняемся квартирами (Джей живет у меня в Париже, я у него в Нью-Йорке), почему бы не обменяться несчастьями? Я повесил трубку, и вдруг меня осенило: мои первые взрослые воспоминания связаны с Нью-Йорком. На меня внезапно нахлынула волна полузабытых образов, которые сталкивались, наслаивались друг на друга, путались… Нью-Йорк — второй для меня город на земле, тот, в котором я жил дольше всего, не считая Парижа. Еще подростком я ездил к дяде Джорджу Харбену, дававшему мне приют в своей квартире на Риверсайд-драйв. У меня были свои ключи, я возвращался когда хотел и вообще пользовался умопомрачительной для шестнадцатилетнего школьника, еще даже не расставшегося с девственностью, свободой. До этого меня несколько раз отправляли в так называемые американские «летние лагеря», где я совершенствовался в теннисе под руководством Ника Боллетьери и учил слова песни «Dust in the wind»[98] группы «Kansas».
Джордж умер в этом году, а я, свинья неблагодарная, даже не поехал на похороны. Позже отец купил лофт с огромным, почти во всю стену, окном на Пятьдесят третьей улице, в башне над Музеем современного искусства. Мы с Альбаном де Клермон-Тонерром, побывав в «Эриа», «Лаймлайте» или «Нелл’з», заваливались в эту квартиру. Потом, когда брат отца объявил семейное предприятие несостоятельным, ее пришлось продать. Воспоминания перемешиваются, как ингредиенты коктейля «Лонг-Айленд». Первый ночной клуб, куда я отправился один, назывался «Danceteria» и располагался на крыше под открытым небом. Я мечтал походить на саксофониста «Lounge Lizards» Джона Льюри. Носил носки «Burlington» и коричневые мокасины «Sebago». Если мне не изменяет память, в тусовке на крыше это считалось модным. По средам устраивали латиноамериканские вечеринки в «Windows on the World» — там я впервые попробовал кайпиринью[99]. Сцены нью-йоркской жизни накладываются одна на другую, как двойная экспозиция в фильме. На скорости проплывают облака — символ текучего времени. Я полюбил Нью-Йорк, потому что был там один.
Впервые в жизни я мог ходить куда заблагорассудится, выдавать себя за другого, по-другому одеваться, лгать незнакомым людям, спать днем, таскаться где угодно по ночам. Нью-Йорк внушает дух непослушания подросткам всего мира, подобным Холдену Колфилду, для которых не вернуться вечером домой — утопия. В ответ на вопрос, как тебя зовут, называешь первое пришедшее в голову имя. Заворачиваешь историю, не имеющую ничего общего с подлинной. Это минимум, необходимый, чтобы стать писателем. Я даже заказал себе на Сорок второй улице фальшивые документы, чтобы меня считали совершеннолетним. Нью-Йорк — город, благодаря которому я понял, что буду писать, иными словами, сумею наконец освободиться от себя самого (во всяком случае, тогда я в это верил), превращусь в другого человека, стану Марком Марронье или Октавом Паранго, в общем, вымышленным героем. Там же у меня родился замысел первого рассказа («Старомодный текст»). В нем есть персонаж, которого на протяжении последних двадцати лет читатели принимают за меня. Нас было несколько человек, мы проводили свое первое независимое лето, живя в пустовавших квартирах. Ходили друг к другу в гости, напивались, строили из себя крутых, хвастались выдуманными любовными приключениями, подкатывали к дому в пять утра на таксомоторах, за рулем которых сидели такие же, если не более, наклюкавшиеся водители, и дрожали на Авеню А, выходя из «Пирамиды». В ту пору Нью-Йорк еще был опасным городом, кишевшим проститутками, трансвеститами и наркодилерами. Мы выпендривались друг перед другом, притворялись взрослыми мужиками, но наркотой не баловались, разве что попперсом. По моим подсчетам, все это происходило в 1981-м или 1982-м. Я покупал диски в магазине «Tower Records» на Бродвее. Сейчас он обанкротился, не выдержав конкуренции с Интернетом. Мы кидались рисом в кинотеатре «Waverly Theater», в Гринвич-виллидже, где на полуночном субботнем сеансе показывали «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Кинотеатра теперь тоже больше не существует. Многое исчезло в Нью-Йорке… Питался я исключительно хот-догами, солеными крендельками, жвачкой и чипсами с соусом гуакамоле. Шалопай, блудный сын, добровольный сирота, я купался в счастье. Однажды утром, отчетливо помню, до меня вдруг дошло, что я вырос, вот, хожу в магазин, покупаю себе еду на вечер… Я повзрослел, еще не достигнув совершеннолетия. В то утро закончилось мое детство. В незрелом теле сформировался взрослый человек, но наступило не менее прекрасное утро, когда во взрослом теле проснулся ребенок. Только в начале жизни я часто смотрел на закат, повзрослев, в основном любуюсь рассветами. В утренних зорях меньше безмятежности, чем в вечерних. Сколько их мне еще осталось?
Глава 42
Итог
Утраченное время не возвращается. Нельзя заново пережить минувшее. И все же…
Эта повесть — не слепок с реальности, а рассказ о моем детстве — таком, каким я его увидел и на ощупь воссоздал. У каждого свои воспоминания. Но отныне это заново сотворенное детство, эта реконструкция прошлого, и есть моя единственная правда. То, что написано, становится реальностью, значит, этот роман повествует о моей подлинной жизни, которая больше не изменится и которую я больше не забуду.
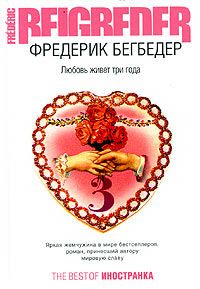
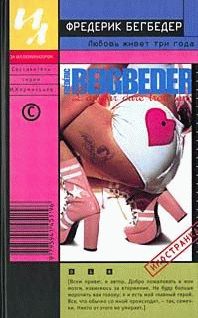
![Фредерик Дар - Глаза,чтобы плакать [По моей могиле кто-то ходил. Человек с улицы. С моей-то рожей. Глаза, чтобы плакать. Хлеб могильщиков]](/uploads/posts/books/148319/148319.jpg)

