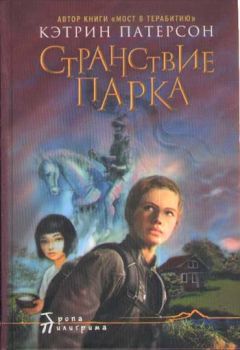Николай Байтов - Думай, что говоришь
Траектория «Дед Мороз»
И если ты, читатель, добрался наконец в своей личной жизни до этих строк, — хотя я не знаю, каким был твой путь: он мог быть длинным и представлять собой связную логическую цепочку, а мог быть и хаотическим, выстроенным из спонтанных, разнонаправленных скачков, мог быть и совсем коротким, — вот почему выражение «добрался наконец» имеет здесь несколько иной смысл, нежели тот, к которому мы привыкли: обозначает оно, скорей, моё волнение, мой вопрос, мою надежду на то, что, быть может, мой собственный путь наконец-то пересёкся здесь и сейчас с путём человека, который поймёт меня в моих собственных значениях, ибо…[1] в себе много лет, а точней говоря, всю жизнь, пусть она и не очень долгая и не слишком изобилует событиями и встречами, но всё-таки неужели это такая редкость, такое невероятное стечение обстоятельств, на которое и рассчитывать-то никому не следует, если мыслить, так сказать, «здраво», то есть я имею в виду мнение гипотетического здравомыслящего, укоренённого в объективном мире сознания, что, мол, глупо надеяться на то, что тебя вдруг кто-то примет всерьёз и все твои слова и поступки станет интерпретировать не как художественный вымысел, игру, перформанс, а как указания, вполне надёжно и однозначно отсылающие к реальности, пусть даже мы оставим в стороне вопрос о том, что такое реальность, насколько она сама надёжна и в каком смысле вообще существует, ибо такой вопрос завёл бы нас в заведомо проблематичные даже для опытного философа-профессионала области, почему и правильно, с моей точки зрения, поступает большинство людей, что отнюдь такого вопроса перед собой не ставят, а просто нормально ориентируются в том, что им дано, и редко, надо сказать, ошибаются, хотя, конечно, видно, что они ничего не понимают и ошибаются во всём точно так же, как и в интерпретации моих слов и поступков, однако эти ошибки сплошь оказываются несущественными, поскольку касаются каких-то деталей, незначительных по сравнению с общим курсом их жизни, если позволено так выразиться, представив себе нечто вроде корабля или лучше, пожалуй, самолёта, на котором лётчик, например, выполняет боевую задачу, и ему даже полезно не понимать ничего, кроме этой задачи и показаний своих приборов, так что собственные значения встречающихся ему объектов, о которых я завёл речь потому, что этот вопрос я задаю себе много лет и если не всю жизнь, то по крайней мере с того памятного дня, когда на втором или третьем курсе института — не помню, в лекциях ли по линейной алгебре или по теории операторов — мне впервые сообщили о том, что у операторов бывают так называемые «собственные значения», а также объяснили, что именно под этим термином подразумевает соответствующая математическая теория, и я прекрасно помню, что в тот день я всё это основательно понял, только теперь несколько подзабыл, что неудивительно, если учесть, что с тех пор я размышлял лишь о том, не является ли сам человек — и я, в частности, — чем-то вроде такого же математического оператора, поскольку он, человек, принимает из окружающего мира информацию и, преобразовав её в другую информацию, отправляет назад в окружающий мир, причём, наверное, та информация, которую он может отправить назад неискажённой, и принадлежит как раз к области его «собственных значений», так что оказывается, я не очень-то и подзабыл, только толковать стал шире и более обобщённо, отвлекаясь от математических деталей, хотя, по моему убеждению, в них-то и заключается строгость мышления, недоступная «здравомыслящему» большинству, которое, пожалуй, правильно делает, что отнюдь о том не жалеет…[2] ибо и без этой строгости нормально ориентируется в том, что ему дано, и даже редко, надо сказать, ошибается, хотя, конечно, видно, что оно ничего не понимает и ошибается во всём, но эти ошибки сплошь оказываются…[3] несущественными, так как почему-то всегда получается, что они затрагивают лишь детали, незначительные в сравнении с общим курсом жизни, если позволено представить себе эту жизнь чем-то вроде самолёта, на котором лётчик, скажем, выполняет боевую задачу, и ему даже полезно не понимать ничего, кроме этой задачи и показаний своих приборов, так что собственные значения встречающихся ему объектов никакой роли играть для него не могут, — настолько, что можно без труда перевернуть это выражение и сказать, что они именно только то и делают, что «играют роль», то есть показывают некий перформанс, — я имею в виду объекты, а не их значения, которые в этом случае, то есть в случае такого поведения[4] никогда не будут восприниматься пилотом как «собственные», но лишь как значения «лирического героя», маски, за которой естественно предположить пустоту, или точнее, безразлично, что за ней предположить, ибо находящееся там лицо никак себя не проявляет, то есть действует так же, как действовала бы пустота и, стало быть, по смыслу равно пустоте с точки восприятия[5], и даже всегда удобней приравнять его пустоте — тогда игра будет совсем чистой, незаинтересованной, подобной спортивному состязанию, скажем, древних эллинов, хотя, быть может, только из-за их древности нам кажется, что их единоборства были «чистыми»: поскольку из временной дали мы не можем разглядеть стоявшие за их спортом политические и экономические пружины, нам кажется, что на месте этих пружин располагается священная, божественная пустота, которую репрезентировали греческие атлеты и которую современные спортсмены всё-таки (по ошибке, но надо отдать им честь за эту возвышенную ошибку) пытаются репрезентировать до сих пор, хотя всё с меньшим успехом, вплоть до гонок «Формулы-один», где «божественная пустота» уже до отказа набита интересами автомобильных фирм и рекламой, и всё же для пилота даже этой формулы кажется полезней не понимать ничего, кроме своей спортивной задачи и показаний своих приборов, так что собственные значения встречающихся ему объектов никакой роли играть для него не должны — настолько, что можно без всякого труда перевернуть это выражение и сказать, что они именно только то и делают, что «играют роль», то есть показывают некий перформанс, упрощённый, впрочем, по своей психологии, — даже много проще, чем, например, художественный текст, психология которого не сводится к одному безусловному и безграничному стремлению — одержать верх над противником (соперником), что в случае с художественным текстом, вероятно, было бы эквивалентно стремлению во что бы то ни стало убедить читателя, пусть и более тонко: не в идеологическом, а хотя бы в эстетическом плане[6] — но всё равно внушить ему некоторые значения как «собственные», из чего видно (мне, во всяком случае), что это не так, и художественный текст как перформанс движим гораздо более сложной и разнообразной психологией, вплоть до того, что в пределе эта психология может включать даже совсем обратную задачу: унизиться перед читателем, спасовать, опозориться, потерпеть крах, внушить ему, что он умней, образованней, нравственней, чем автор, и уж во всяком случае обладает более развитым вкусом, как, наверное, и ты, читатель, добравшийся наконец в своём читательстве до этих строк, — хотя я и не знаю, каким был твой путь: он мог быть прямым или извилистым, длинным или коротким, — вот почему выражение «добравшийся наконец» несёт здесь, пожалуй, несколько иной смысл, чем тот, к которому мы привыкли, и обозначает, скорей, мою наконец-то созревшую внутреннюю готовность без малейшего сожаления или досады дать любому — первому встречному или «наконец-то встреченному» — человеку превозноситься за мой счёт, — я только порадуюсь этому, да, порадуюсь, а не посмеюсь в глубине души, потому что смеяться на поверхности души означало бы самому превознестись и одержать верх, как, впрочем, то же самое означал бы и смех в глубине души, с той лишь разницей, что то была бы победа неявная, а потому и более гордая, а потому, следовательно, и более полная, и значит — более отвратительная для меня, верней сказать, не «отвратительная», а — я бы чувствовал от неё сильный дискомфорт: беспокойство, стыд, неуверенность, как это всегда бывает со мной, стоит мне — хоть это случается и очень редко — припереть кого-нибудь к стенке, и наоборот: стоит кому-нибудь уличить меня, скажем, во лжи или в каком-то неблаговидном поступке, как я тотчас успокаиваюсь, становлюсь весел и беззаботен, даже смеюсь, но не над тем, кто меня уличил, а смеюсь просто от радости, что мне наконец-то не нужно ничего из себя изображать, играть роль, перформансничать перед кем-то, кто на меня смотрит, пусть даже этот «кто-то» принадлежит к «здравомыслящему» большинству, которое ничего не понимает и ошибается во всём, кроме общего курса жизни, подобно пилоту, выполняющему, например, боевую задачу, для которого не имеет значения ничего, кроме этой задачи и показаний приборов, регистрирующих внутреннее состояние его аппарата и лишь внешние, формальные[7] признаки встречающихся объектов, так что собственные значения этих объектов никакой роли играть для него не могут, а зря: именно в том единственном случае, когда это были бы значения внутренней капитуляции, смирения, самоуничижения и весёлости духа в связи со всем этим, они дали бы пилоту, не будь он столь же туп, как «здравомыслящее» большинство, совсем иные, более простые средства для выполнения боевой задачи и совсем новое, ни на что не похожее, никогда не изведанное им раньше чувство победы, которое я, например, без малейшего сожаления или досады готов дать любому — первому встречному или «наконец-то встреченному» — человеку, да только беда в том, что эти люди на моём пути, воспитанные в детских садах, где с младенчества им навязывалась схема элементарного, однозначного доминирования в игровых фигурах борьбы, призванных, быть может, имитировать борьбу природную и социальную, однако же настолько идиотических, что невольно задаёшься вопросом: «а не является ли, напротив, сам наш социум инерционным продолжением детского сада?» — или дальше, замирая от омерзения при мысли об одной лишь возможности такого предположения: «а не является ли природа сама детским садом, и в таком случае детский сад не имитирует её в воспитательной игре, а принуждённо, покорно отражает, поскольку сам погружён в неё и не имеет выхода ни во что иное?» — или ещё дальше, проваливаясь наконец в такие подозрения, от которых вообще ум за разум может зайти: «а не является ли всё мироздание детским садом?»[8] — так вот, повторяю, эти люди на моём пути, воспитанные в обстановке, где всякая уступчивость высмеивалась коллективом как слюнтяйство, — эти простые люди очень естественно презирали меня, отворачивались и зажимали нос — без всякого, надо сказать, намерения, то есть непроизвольно обозначая, сколь претит им и дурно пахнет моё поведение, — любое, хотя бы мы взяли для чистоты исследования только художественный план, — так они и там красноречиво воздерживались от высказываний, поджимая губы: дескать, о чём тут говорить, если он вырезает из скабрезных журналов самые вульгарные фотографии вульгарно расположившихся и даже / делающих вид, что /[9] мастурбирующих женщин, и всё его так называемое «искусство» состоит в коллажировании этих дешёвых фотографий, причём, если б было тут хоть какое-то художественное отстранение, а то ведь он сам натурально тащится и даже, поди, мастурбирует, так что вся его художественная позиция есть уступка, капитуляция перед легчайшим и глупейшим напором ветерка пошлости, овевающим наш простецкий мир, — и он же в нём натурально, повторяем (а здесь я не понимаю, кто это повторяет: сейчас я уже отстал от своей бывшей мысли), тащится, влекомый согласно соглашающейся своей маленькой сутью, — последует, а потом говорит в том смысле, что его капитуляция есть в некотором роде гордыня, то есть с некоторой точки зрения, которую он сам силится внушить, есть поведение, отдающее его (так попробуем выразиться, уйдя от имитации его прямого, квазипатетического способа выражаться)[10] во власть самовольного и, дескать, — короче, короче: я уже давно взял себе за правило писать короче, правда, я не помню, писался ли этот текст, это лирическое эссе до того, как я принял это решение, или позже, однако же, судя по многим внутренним признакам, писался он вскоре после 85-го года[11]) — тогда задача остаётся в том, чтобы определить, когда именно я принял решение писать короче, и сейчас думается (я перелистываю свои записные книжки), это было в 86-м, однако слово «сейчас», только что употреблённое, я уже совсем не знаю, к какому году отнести, а ведь содержимое записных книжек очень сильно зависит, я полагаю, от решения этой задачи, поэтому что толку было их перелистывать, когда даже Эйнштейн (я это доподлинно знаю) не смог сформулировать физически корректно вопроса «что такое сейчас?» — а ведь его эта проблема мучила всю жизнь очень сильно — наверное, гораздо сильней, чем мучает меня, если только можно про такого тупого человека, как я, сказать, что его вообще что-то мучает, хотя, конечно, люди все мучаются — и тупые, и острые, и бездарные, и гениальные — мучаются, куда ж тут денешься? — такова их судьба, и кто станет с этим спорить, дурак разве. Но я хотел сказать, наверное, что его (Эйнштейна) подход к проблеме сейчас был во столько же раз более конструктивным и — что самое главное — внутренне напряжённым, чем мой, во сколько, пожалуй, его мыслительный потенциал был мощнее моего, опять же, — а если это сравнивать (а как это сравнивать?), то всё снова получается мутно, ибо при чём здесь мыслительный потенциал, и не является ли он, наоборот, величиной производной от способа постановки задач в этой жизни, — а тогда от чего же зависит сам способ, как не от нашего произвола, а точней, от какой-то нашей склонности, которая управляет этим произволом, как и всей нашей так называемой «свободой»[12] — вот до чего ты добрался, читатель благодаря издаваемости текстов в нынешнее время[13], и если это тебе наконец что-то даёт (а как мне надоело, что мои поставленные вслед друг за другом буквы не дают существенного никому ничего!) — хотя я не знаю, каким был твой путь: он мог быть смиренным путём прилежания или гордым путём нетерпения, который, в свою очередь, может делиться, например, на снисходительный и возмущённый или как-нибудь по-другому, или дальше — вот почему выражение «наконец что-то даёт» имеет здесь несколько иной смысл, нежели тот, к которому мы привыкли, а обозначает оно, скорее, моё волнение, мою надежду на то, что, быть может, мой путь пересёкся наконец-то с путём человека, который сумел что-то взять, то есть сублимировать из моего лирического болота (а что сублимировать, я и сам не понимаю. Но не это важно, а то, что нашёлся наконец мне друг и восприятель, так сказать, не «здравомыслящий», то есть не укоренённый в псевдоестественном представлении, что, дескать, всё, что он (то есть я) пишет, есть его личные указания, вполне надёжно отсылающие к реальности — но только к реальности его личной, внутренней, которая иным способом дана быть не может, почему я и называю такое представление «псевдоестественным», хотя точнее, в контексте сказанного, его было бы назвать «псевдонаучным», ибо наука, таким образом получается, и есть основная игра (и в этом её отличие от искусства) — тот идеальный перформанс, который проходит при полном отсутствии «автора», уподобляющегося в этом случае абсолютно эластичной субстанции актёра, когда тот принимает любую форму, которая ему предлежит, или, лучше сказать, безличной субстанции пилота, заключённого лишь как некая воля внутри пилотируемого им аппарата и выполняющего боевую задачу безотносительно к тому, принадлежит ли эта задача к области его собственных значений, — да, конечно нет: как она могла бы принадлежать? — это так же дурно выглядело бы, как если бы астроном, открывший новую звезду и зарегистрировавший в журнале её координаты, дал бы ей имя своей невесты или любовницы, — а между тем разница между научной и боевой задачей всё же есть (хотя обе они предполагают непривнесение ничего, так сказать, художественного изнутри экспериментатора или бойца) — и разница в том, что экспериментатор лишь регистрирует, боец же должен изменить, переформировать встреченную и изученную ситуацию в соответствии с внеположным ей принципом, — впрочем, всё это банальности, я не делаю никакого открытия, и если мои поставленные друг за другом буквы передают наконец такое значение, или лучше сказать — сообщение, к которому уже никак, ни с какой стороны не приложимо слово «собственное», то я, конечно, очень рад. Однако я не понимаю: действительно ли мне удалось обмануть? И кого? И зачем?.. Нет, зачем — понятно. Но вот «кого» — это вряд ли… То есть едва ли найдётся такой дурак. Ибо таких дураков сейчас нет. Это надо было бы быть полным отсталым деревенщиной, чтобы верить, как при советской власти, будто бы искусство (а в данном случае уже: художественный текст, хотя он изворачивается и норовит всячески нарушить нормы, которые в представлении любого здравомыслящего — да и как угодно мыслящего — человека (о, достаточно, чтобы он вообще мыслил — хоть немного! — однако сколько должно быть этого «немного», чтобы было «достаточно»? — да и можно ли мышление оценить количественно — ещё вопрос) — тем не менее ясно, что я имею в виду общепринятые нормы, которым должен худо-бедно соответствовать художественный текст, а он в последнее время соответствует худо, причём всё хуже и хуже, но это никого не волнует, поскольку всё равно обмануть он никого не может, ибо давно все вдолбили друг другу, что хватит верить вообще чему бы то ни было, и пусть даже текст совсем не художественный, а, наоборот, непритворно научный, всё равно он так или иначе априори — а особенно апостериори, то есть после его восприятия, а верней, в процессе — был и всё более становится художественным в том смысле, что ни к чему внешнему он, конечно, не отсылает, а указывает лишь на самого себя. А то, что он куда-то отсылает, — над этим посмеётся сейчас любой детсадовский ребёнок. Эту соцреалистическую сказочку про белого бычка пусть Дед Мороз расскажет своей Снегурочке в канун Нового, 1999 года.