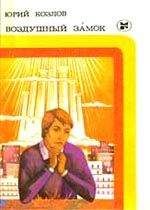Денис Соболев - Иерусалим
Мне так и не удалось сосредоточиться на письме; возможно, это происходило оттого, что в моей жизни рваными разрывами неожиданных пауз и цезур постоянно появлялись случайные люди и всевозможные помехи, которые я сам же и создавал. Но более вероятно, что это происходило оттого, что я сам бежал от своего романа, выдумывая различные предлоги не делать то, что уже окружало меня со всех сторон и постоянно ускользало при каждой попытке протянуть к нему руку. А потом я возвращался к разложенным вдоль ковра книгам и снова раз за разом пытался представить себе рабби Элишу, одиноко сидящего где-нибудь на берегу в верховьях Иордана или у шумного, пенистого водопада на одной из речек Голанских высот[130]. Но процесс возвращения видения был долгим, мучительным и в большинстве случаев бесплодным. А потом пришел мой друг Леша, как всегда без звонка.
— Слушай, — сказал он, — я тут проезжал мимо и подумал, не зайти ли к тебе.
— А позвонить? — сказал я.
— Да ладно, — ответил он, — что еще за китайские церемонии. Ты же знаешь, для меня нет ничего важнее, чем регулярно видеть своих близких друзей. Телефонные разговоры это не заменяют.
Он подробно рассказал мне о новостях у себя на работе, о новых проблемах со своей женой и о том, сколько на самом деле получают наши коллеги, работающие в Хайфе в «Горене» — фирме, аналогичной той, из которой я ушел. Мне же захотелось поговорить с ним о рабби Элише, о своем романе и, может быть, хотя это и не выглядело правдоподобным, даже об Орвиетте. Сколько бы я ни клялся этого не делать, желание говорить с близкими мне людьми о том, что меня интересовало, было неизбывным, как сама пульсация этой нелепой жизни.
— Да, чего-то такое я слышал, — сказал он, — ты можешь мне напомнить?
Я начал рассказывать ему о рабби Элише и вдруг заметил, что он зевает; он прикрыл рот ладонью, извинился и сказал, что работал вчера до ночи.
— А что это ты читаешь Талмуд? — спросил он. — Ты что, в досы решил податься?
Я ответил ему, что вроде бы нет. Он подумал и добавил, что все это ужасно интересно, и про этого рава-расстригу мы еще обязательно договорим. Мы поболтали еще полчаса про общих знакомых, и он ушел; но вечером все же позвонил.
— Кстати, — сказал он, — по поводу того, о чем мы говорили сегодня утром, моя драгоценная супруга мне сегодня сообщила, что я шлемазль — и знаешь почему? Потому, что в свое время не попытался устроиться в «Горен». Хороша бы она была, если бы я торчал на работе по четырнадцать часов и три раза в месяц ездил в командировки.
— Ну, — ответил я, чуть подумав, — возможно, ее бы это и порадовало.
— У тебя нет жены, — сказал он довольно резко, — и с твоим характером никогда не будет. Так что не тебе об этом рассуждать.
Я хотел нахамить ему в ответ, но почему-то тоже зевнул.
Я лег на кровать, на плед, положил руки под голову, вытянул ноги и для того, чтобы отвлечься, начал листать «Су Нюй Цзин»; я занимался этим довольно долго, пока, наконец, мой взгляд не остановился на одной из фраз, сказанных Желтым Императором: «Если ребенка зачинают в дни первой или третьей четверти лунного месяца или на полнолуние, то в будущем он будет служить в мятежных войсках и совершать опрометчивые поступки». И в этот момент я увидел еще один смысл этого трагического, одинокого, нелепого и обреченного бунта рабби Элиши. Он был направлен не только, а может быть, и не столько против самого Закона, сколько против того, что был призван узаконить, — против того, что принято называть человеческим уделом. Бунт рабби Элиши, раскачиваясь между невозможностью и неизбежностью общения с миром, был обращен против самого существования, против жизни, отсутствующей в мире. Пожалуй, именно в этом его обреченность проступала с особой пугающей рельефностью, поскольку бунт против несуществующего был еще безнадежнее бунта против существующего. В последнем случае отказывающийся еще мог надеяться на секиру палача, на краткое и смертоносное внимание окружающего миропорядка. Духу же рабби Элиши было не на что опереться в мироздании, наполненном лавочниками и демагогами. Впрочем, достаточно очевидно, что стремление поставить ногу в отсутствующем, взгляд, обращенный к той жизни, которой нет и не может быть, неизбежно перерастает в радикальный отказ от существующего с его лицемерием, уродством, насилием и историей. Дальше же возможны только две дороги. Первая из них — это поиск забвения, слияния с глубинной природой бытия, потоком существования, подсознательным, простым желанием быть; это путь скольжения и сна. Вторая же дорога ведет к ярости бунта, трагическому и бесцельному действию, уничтожению, беспредметной любви и безграничному презрению. Я не знал, какую из них выбрал рабби Элиша. Существующие же свидетельства подсказывали мне, что он выбрал третий путь, которого не существует.
В любом случае, мне было достаточно очевидно, что речь не идет о втором пути — нигде, ни в одном из источников, не было сказано об этом ни единого слова, да и сам этот путь был едва ли совместим с тем твердым и хладнокровным принятием своей судьбы, с молчаливым вызовом вечности и любовью к смерти, без осторожного и вдумчивого понимания которых едва ли можно было понять рабби Элишу. Оставался первый путь; но я не знал, каким образом следует про него думать. Я отложил книгу в сторону, несколько раз прошелся по квартире и подумал, что мне следует пойти куда-нибудь выпить; было уже темно, и на улицах горели фонари. Я позвонил Сене и спросил, что он думает по поводу отхлебнуть; он сказал, что уже идет на хату к Бухалову, и мы пошли вместе. Она находилась в Нахлаоте в одном из узких, вытянутых дворов по ту сторону улицы Бецалель; я иногда там бывал. По дороге мы встретили Кумарова, и, выругавшись в качестве приветствия, он сказал нам, что сегодня утром понял, что совсем не переносит пиво. Накануне у Бухалова они пили вино из трехлитровых коробок, потом водку «Александров», потом раза два-три курили траву, немножко закинулись и уже под утро вернулись к «Александрову»; но все было хорошо, и он был трезв, как стеклышко. А вот потом от большого ума уже по дороге домой он купил на рынке какого-то дерьмового пива, и его вывернуло прямо на тротуар; его до сих пор тошнило, и он сказал мне, что на самом деле все это заслуженно, потому что не надо пить всякую дрянь с рынка. Он был мне скорее симпатичен, чем наоборот, и мы взяли его с собой к Бухалову, хотя он и сказал нам, что как бы мы его ни уговаривали, пиво он больше пить не будет. Когда мы пришли, там уже пили, а Алина пела под расстроенную гитару.
Потом она отложила гитару, мы сели за низкий ободранный стол, выпили по штрафной и присоединились к разговору. Чуть позже пришли еще две девицы, довольно миловидные; одна из них — с тонкими чертами, длинными красивыми волосами и смуглой кожей — была сильно пьяна и постоянно чесала лодыжку. Мы немного поругали адвокатов и программистов, и довольно быстро наш разговор перешел на книги; почти единодушно сошлись на том, что «Кортасар крут», а «Фаулз грузит».
— Хотя в книжке про Грецию, — сказала Алина, — у него там на острове такие глюки прикольные.
— На самом деле, — сказал Чечмек, — здесь все глубже. Просто все книги делятся на те, которые с властью и которые против нее. Короче, это либо сплошное блядство, либо литература.
— Потому что они хотят, — ответила Зайка, — чтобы мы делали то, что они хотят.
— А вот хрена им всем лысого, — добавил мрачно Кумаров, — любой из нас тоже хочет и должен делать то, что хочет. Иначе, блин, полный пиздец.
Мы еще довольно долго про это говорили и пришли к выводу, что нет ценностей выше, чем спонтанность и свобода, и литература должна выражать их и именно их. В процессе я заметил, что Бухалов непрерывно клеится к смуглой длинноволосой девице; впрочем, они явно были знакомы и раньше.
— Ну вот, — мрачно пробормотал Отходняк, — какого хуя он ее поит. Она же опять ужрется, будет орать и бегать с тесаком по квартире.
Кумаров сосредоточенно посмотрел в тарелку.
— Слушай, — сказал Бодунчик Чечмеку, чуть подумав, — ты же охренительный текст написал, а его только я и слышал.
Мы стали просить прочитать, Чечмек поначалу отказывался, но мы все же немного раздвинули стулья, а Бухалов с девицей пересели на диван.
Чечмек достал несколько страниц, потер их в руках, согнул, разогнул, хлебнул еще водки и начал читать.
— Посвящается кнессету и его депутатам, — сказал он.
Впоследствии мне объяснили, что речь идет о коротком рассказе из большой серии, объединенной общим лирическим героем. Начало было мне не очень понятно, и я его не запомнил; дальнейшее же я могу воспроизвести достаточно точно, за исключением импровизированных отступлений и ремарок, поскольку у меня сохранилась вторая страница этого рассказа. Я незаметно вытащил ее из пачки, когда мы чуть позже укладывали Чечмека отсыпаться под диван. «Он вытащил дрын из-под хайратника[131], — начиналась вторая страница, — и помахал перед ее носом. В ответ она укусила его за руку и вырвала кусок мяса. Потек гной. „Сука, — сказал он, — под ментов ложишься, да?“ Но тут навстречу появился танк с красным маген давидом[132] и начал стрелять по нему пивными банками с дерьмом. „Опять мусора!“ — злобно закричал он и кинул в танк пустым мусорным бачком. Коктейль Молотова подействовал, и танк остановился. Завыла сирена. По городу толпами побежали синие кроты в униформе парашютистов. „Круто, — подумал он, — этих уродов мы еще отымеем“, — и вывесил над пивной флаг с портретом Че Гевары». Если я не ошибаюсь, где-то на этом месте смуглой девице стало плохо, и, положив руку на солнечное сплетение, она медленно ушла в сторону ванной, Бухалов отправился вслед за ней; до нас донесся сдавленный кашель, потом стон и ругань. Чечмек продолжал читать, и подвиги героя множились на глазах; автор его явно очень любил. Потом Отходняк допил из горла вторую бутылку «Александрова», и ему тоже стало плохо; он ушел, но довольно быстро вернулся. От удивления Чечмек перестал читать.