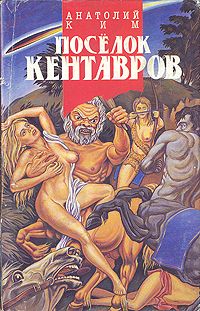Ульяна Гамаюн - Ключ к полям
Опустив вуаль, встряхивая перистыми облаками, струилась над нашими головами ночь. Да и впрямь ли ночь? А может быть, день, в чернильном плаще с золотистым подбоем и шутовскими бубенцами вместо звезд? Все в масках, все ряженые: Пьеро и Пьеретта, небо и земля. Я не найду, никогда ее не найду.
Над сумрачными деревьями расцветали пьяные фейерверки, шипела и пенилась, переполняя бокалы, жизнь. Нищие и дожи – все были пьяны и счастливы. Повсюду были влюбленные, на каждом шагу. Они лезли в глаза, словно мошкара в медовый летний полдень. Казалось, что от этих прильнувших друг к другу тел валит пар. И еще – колонны, нагромождение колонн, выточенных из зефира кропотливой рукой, кованые ограды, бледноликие изваяния, пухлые боги и богини – все были в сборе. Даже я, свободный от былых пут, бродил под этими бледными звездами, но той, что разбила мои путы, нигде не было. Неужели разрушив храм, она и сама погибла под его развалинами?
Нет чувства острее, чем печаль, которую испытываешь в толпе незнакомых, веселящихся людей. Это мука, неразбавленная горечь, чистая эссенция одиночества. Помню, как сидел в баре и гасил, один за другим, отвратные полосатые коктейли. Потом каким-то образом (это уже не помню, нагрузился я порядочно) очутился на скамье, лицом кверху, в увитой диким виноградом беседке. Было тихо. На потолке плясали цветные огни далекого карнавала. Я поднял руку (она попала в полосу мягко-лилового света), погладил молчаливую стену, потерся о нее щекой. Каким нелепым казался дель ад, торжествующий неподалеку, каким нереальным! Только перчатка в пятне света на полу, оброненная одной из тысяч Коломбин, робко шепнула что-то, сама себя оборвав на полуслове. Я смотрел на нее издали, не в силах ни подойти, ни прикоснуться.
Фиолетовые стены вздрагивали под вуалью бегущих теней. Фонарь звучал где-то далеко, негромко. Парами, кружевами, вальсируя, летели листья. Кто-то возился под деревьями у входа в беседку. Я порывался встать, но так и не смог. Начался снегопад. Снежинки пузырьками шампанского поднимались на крышу. Пока я пытался заставить их лететь вниз, как полагается, у входа выросла тень двугорбого верблюда. Горбы раздались в ширину и забормотали.
– Что будем делать с комнатой?
– Ничего. Завтра это уже не будет иметь никакого значения.
– А Жужа?
– И Жужа не будет иметь никакого значения.
– А что делать с этим?
– Ничего не делать. Он сам все сделает.
– А...
– Ну что еще?
– Когда?
– До рассвета. Точно сказать не могу.
– Разогнать их всех?
– Поздно. Начнется неразбериха, и он ускользнет.
– Может, он не явится...
– Уже явился. Передай остальным, чтоб были начеку.
Услышав скрип, я понял, что не сплю. В беседку прошмыгнуло белое пятно. Я сел на скамейке. Пятно остановилось. Маленькое, вертлявое, оно громко и подозрительно сопело. Вспыхнул свет – салатовый светильник на деревянном столике.
– О, Арлекин! А я-то думал... Я вас разбудил, простите, – любезно прошепелявило пятно, постепенно приобретая знакомые лилипутские очертания.
Он был в костюме Пульчинеллы: белый балахон, перехваченный красным поясом-шнурком, белые свободные панталоны и высокий колпак того же цвета. Башмаки, тоже белые, напоминали громоздкие боты Золушки в пору ее пролетарского девичества. Из-под черной полумаски с резко выдающимся вперед носом-клювом торчали черные, с чужого плеча, патлы. Кроме того, он был пузат и горбат – дихотомия добра и зла в одном тщедушном теле. Помада на толстых губах багровела так, словно он ел ее, а не красился.
– А вы прилягте, будет похоже на лоскутное одеяло. – Панч подошел к заваленному бумагами столику и, сортируя их согласно каким-то таинственным признакам, стал раскладывать ему одному понятный пасьянс.
Я сидел, пытаясь осмыслить подслушанное, особенно часть о Жуже. Сам себе удивляясь, я вскочил и метнулся к карлику.
– Где Жужа, отвечай! – заорал я, тряся его, как погремушку.
Бумажки посыпались на пол. Белый Пульчинеллов балахон, похожий на мешок, стянутый сверху ниткой, упрямо выскальзывал из рук, и они как-то сами собой поползли вверх, к его горлу. Мои пальцы уже совсем было освоились на его крепкой шее, как вдруг Пульчинелла боднул меня накладным животом и стукнул по колену Золушкиной, довольно увесистой, туфелькой. От неожиданности и боли я едва не упал.
– У вас дурные манеры, – прошепелявила маска.
Салатовый свет ее отнюдь не красил. Меня, думается, тоже.
– Впрочем, чего еще ожидать от Арлекина...
Из зарослей вынырнула псевдоиспанская рожа Капитана (привет, Буонаротти!):
– Помощь нужна?
– Нет, нет, – замахал руками карлик. – Мы сами прекрасно разберемся. Ведь правда, дружище Арлекин?
– Если что, зови. – Ветви качнулись.
– Я бы мог сейчас со спокойной совестью натравить на вас Капитана. – Черный клюв уставился на меня. Я уселся на полу, потирая ноющее колено. Карлик знал, куда бить. – Благо, у меня всегда были настоящие друзья.
Камешек мимо огорода – слишком занят я был коленом.
– А в свете того, что вы только что чуть меня не задушили...
– Я не хотел, – буркнул я. – Простите.
– Ладно уж, что ж. Вам тоже досталось, и кажется, по той самой ноге. Это ведь ее вы сломали в детстве?
– В детстве? Да... ее.
– Ах, надо же! Если бы я знал! Шандарахнуть человека по перелому! Закрытый или открытый?
– Закрытый.
– Боже мой, закрытый! Закрытый опаснее всего! Никогда себе не прощу! – Пульчинелла всплеснул ручонками и завсхлипывал.
– Да ничего, не так уж сильно вы меня стукнули, – соврал я. Вид у Пульчинеллы был совсем жалкий. Неужто раскаивается?
– Правда? – Голос сразу окреп, всхлипы оборвались. – Вы слишком добры! Все мы вместе взятые не стоим мизинца вашего! Вот Бригелла, к примеру, вы простите, конечно, но что за бессовестная тварь! Он с пеной у рта мне доказывал, что ногу вы сломали пять лет назад, в пьяной драке с каким-то критиком, Мишкой или Михасиком, точно не помню. Будто бы вы с этим Мишутовым весь вечер пили в какой-то забегаловке, а потом набросились на беднягу из-за совершенно безобидной статейки, которую он, человек подневольный, против вас накатал. Дальше – совсем невероятно: будто бы в пылу битвы Потапенко схватил вас за ногу и потащил к выходу, а вы цеплялись за скатерти и кучу добра перебили. Собралась толпа, кто-то упал в обморок... Михайлов же не успокоился, пока не вышвырнул вас на улицу.
– Вранье.
– Конечно вранье! И как только у предателя язык повернулся...
– Хватит. Где Жужа?
– Музицирование, жонглирование, актерство и загадывание загадок.
– Что?
– Нет ее, вот что.
– Как это нет?
– Очень просто. Она уехала, как и собиралась.
– Вы лжете.
– Верить мне или нет – дело ваше, – напирая на раскатистое «р», сказал Панч, собрал свои исписанные бумажки, с достоинством подтянул красный шнурок на животе и направился к выходу.
– Хорошо, я вам верю, – заторопился я. – Но куда она уехала? Вы наверняка знаете.
– Знаю. А вы ничего не знаете и никогда не узнаете, вы знаете и узнаете только то, что вам захотят показать!
– Я имею право знать!
Пульчинелла обернулся. Глаза в прорезях маски ехидно сверкнули.
– Вы, как всегда, себе льстите. Никаких прав у вас нет. С чего бы? Вообразили себя рыцарем печального образа? Дон Кихот из вас никудышный, да и я отнюдь не мельница. Роль Нарцисса – вот ваше пожизненное амплуа, за него и держитесь. Вы просто органически не способны кого-нибудь спасти, даже если сильно того захотите. Вы патологический душегуб. Зачем вам Жужа? Вы ведь, кажется, поссорились?
– Не суйте свой Пульчинелий нос...
– О, вам приглянулся мой нос? Польщен, – поклонился, приподняв колпак.
– ... в наши с Жужей отношения.
– А нет никаких отношений! И не было! – Я представил его брезгливо-нагловатую физиономию под маской – квазирожа Квазипульчинеллы. – Вам от судьбы достался карт-бланш, а вы его просрали! Как вы умудрились? Что вы там делали, в вашем темном кафкианском логовище?
– Руки прочь от Кафки! – вяло отмахнулся я. Значит, причины он не знает.
– Неравнодушны к землемерам, да? – промурлыкал Пульчинелла. И вкрадчиво-елейно продолжал: – Жить не может и умереть не хочет. А послушайте, может, у вас такие же проблемы, как у Франца? Ну, с девушками...
– Какие проблемы, что вы несете?
– К.К.! Комплекс Кафки! – Клоун ликовал.
– Не знал, что вы еще и в психоанализе собаку съели.
– Мои собаки пусть остаются на моей совести. Сейчас речь не о них. Сейчас речь о том, что вы, слабак, неудачник, трус и самовлюбленный сноб, причинили много вреда окружающим вас людям.
– Вы говорите, что отношений не было. – Я старался не смотреть на Пульчинеллу: его черный клюв был ужасен. – А как же письма?
– Ха, ваши письма! А что в этих письмах? Что в ваших, Арлекин Францевич, письмах? Я, я и снова я, вы то есть. Понимаете, какая штука, мой безутешный друг, вся мерзость в том, что эти письма давно уже бродили в вашей голове, дожидаясь только подходящего момента, чтобы хлынуть изо всех щелей. И вот он, момент, подвернулся. Ура! Паук нащупал мушку! Франц обрел свою Фелицу! Теперь можно долго и нудно лицемерить и размазывать по бумаге пароксизмы солипсизма! Ладно, оставим вашего блаженного в покое. Вы даже его обскакали. Хотите сказать, что писали для Жужи? Чтобы извиниться? Не порите ерунды! Вы давно уже не любовались собою на публике, и это, конечно, мутило чистые воды вашего страдания. Красное словцо – ахиллесова ваша пятка. Вы поступили так же, как писатель, который, придумав начало и концовку романа, калечит жизни героев в угоду двум эффектным предложениям. Только тут ведь не бумага. Перестав писать, вы стали сколачивать роман из собственной жизни. Знаете этих зверюшек, которых клоун мастерит из воздушных шаров? Вот нечто подобное вы свернули из собственной жизни...