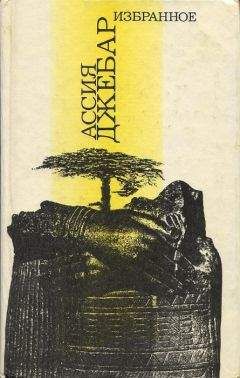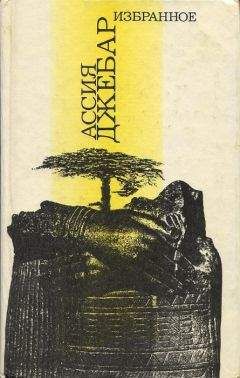Ассия Джебар - Любовь и фантазия
Цепь воспоминаний: быть может, это и в самом деле «цепь», которая не только заставляет помнить о своих корнях, но и сковывает? Сказительница скрыта от глаз тех, кто проходит мимо.
Поднимать занавес и появляться при ярком солнечном свете считается неприличным.
Любое слишком броское слово кажется проявлением ненужного бахвальства, искажением голоса далеких времен, отсутствием должной стойкости и твердости духа…
Кораническая школаВ том возрасте, когда тело уже положено скрывать, кутаясь в покрывало, я, благодаря французской школе, наоборот, начинаю двигаться гораздо больше: по понедельникам деревенский автобус отвозит меня утром в пансион ближайшего города, а по субботам привозит обратно к родителям.
И каждый уик-энд мы с моей подружкой, наполовину итальянкой, которая возвращается в рыбацкий порт на побережье, поддаемся искушению изведать сладость побега… С бьющимся сердцем пробираемся мы тайком в центр города: войти в изысканную кондитерскую, побродить в окрестностях парка, прогуляться по бульвару, который идет вдоль самых обычных казарм, для нас это неслыханная вольность после недели заточения в пансионе! Возбужденные доступностью запретных радостей, мы в конце концов садимся каждая в свой автобус; самое захватывающее как раз в том и заключалось, что мы могли опоздать и не уехать.
В первые отроческие годы я буквально упивалась спортивными тренировками. По четвергам незабываемые часы на стадионе, взбадривавшие меня, словно струя холодного душа. Хотя каждый раз я волновалась, опасаясь, как бы не пришел вдруг отец. Ну как было признаться ему, что мне приходится надевать шорты, то есть, иными словами, показывать ноги? Своими страхами я не могла поделиться ни с кем из подруг, ведь у них не было, как у меня, двоюродных сестер, которые закутываются в покрывала с головы до ног, не открывая даже лица. Поэтому к моим опасениям примешивается «стыд» арабской женщины. Вокруг меня свободно летают тела француженок, они и не подозревают, что мое тело увязает в невидимой топи.
— Так твоя дочь все еще не носит покрывала? — интересуется во время очередной летней свадьбы та или иная матрона с подведенными глазами, в которых притаилась подозрительность. Мне, должно быть, исполнилось уже тринадцать или четырнадцать лет.
— Она читает! — не дрогнув отвечает моя мать.
Воцаряется неловкое молчание, словно у ног наших разверзлась вдруг страшная пропасть. Я тоже молчу.
«Она читает» — по арабским понятиям это означает «она учится». Теперь я начинаю думать, что глагол «читать» был выбран архангелом Гавриилом для коранических откровений не случайно… «Она читает»… Получается, что прочтение любого текста, в том числе и составленного нечестивцами, всегда является своего рода откровением, постижением чего-то; в моем случае речь идет о вольной подвижности тела и, следовательно, о моей будущей свободе.
В мое время, то есть незадолго до того, как родная земля сбросила колониальное иго, мужчины все еще пользовались правом держать четырех законных жен, а мы — девочки и девушки — имели в своем распоряжении четыре языка, для того чтобы выражать свои желания, прежде чем стать бессловесными рабынями: французский язык — для тайных посланий, арабский-для тихих вздохов, предназначенных Всевышнему, берберский — когда нам казалось, будто мы вступаем в связь с древнейшими идолами наших предков. Четвертым же языком — одним для всех, и для молодых, и для старых, для живущих взаперти или наполовину эмансипированных, — был и остается язык тела, которое пытливые взоры соседей и родственников надеются сделать глухим и слепым, ибо не в их власти полностью заточить его, — да, тела, которое путем трансов и танцев или еще истошных криков, в порыве надежды или отчаяния, восстает, пытаясь наугад отыскать на неведомом берегу место назначения своего любовного послания.
В городах наших первым неоспоримым свидетельством женского присутствия является голос, улетающий ввысь стрелой, прежде чем в дурманящей истоме пасть на землю; на втором месте — письмо, буквы которого, нацарапанные острой тростинкой, образуют, подобно лианам, сложные любовные переплетения. Зато само женское тело как бы не существует, его следует укутать, стянуть, запеленать, словно грудного младенца или покойника. Выставленное напоказ, оно ранит взгляд, подогревает самое ничтожное желание, любую разлуку делает нестерпимой. А голос — он каждым воспринимается словно благоухающий аромат, словно утоляющий жажду глоток воды, и потому, вкушая его, каждый испытывает тайное наслаждение, которое становится всеобщей радостью…
Когда пишешь, рука медленно водит по бумаге, а тело, слегка наклоненное вперед или набок, тихонько раскачивается, словно в любовной истоме. А когда читаешь, взгляд медлит, с любовью задерживаясь на строчках, следуя причудливым изгибам букв, заключенный в них таинственный ритм пробуждает в нас ответное эхо, и кажется, будто проникающее в наше сознание слово это и есть обладание.
Образ, запечатленный в слове, не сравним ни с чем, его богатство затмевает любое другое творение, созданное самой природой, животным или растительным миром, словно женщина, он любуется собственным отражением, и даже голос, в котором воплощается слово, порою кажется лишним. Начало и конец всего — в слове; таящейся в нем силой оно пробуждает и радость, и печаль, я имею в виду арабское слово, которого я лишена, ощущая это как потерю великой любви.
Я разглядываю арабские письмена (сама-то я владею только священными понятиями), и они представляются мне сброшенной кожей невинности, сплетением звуков, произносимых обычно тихим шепотом, и потому другие языки (французский, английский или греческий) кажутся мне чересчур болтливыми, не обладающими даром утешения или исцеления; разумеется, в них сокрыта своя истина, но истина ущемленная.
Но зато тело мое, нуждавшееся, очевидно, подобно античному бегуну, в исходном толчке, пришло в движение только после того, как я овладела иностранной письменностью.
Словно французский язык, обладая способностью раскрывать горизонты, наделил меня даром свободного видения, словно французский язык мог сделать незрячими мужчин-соглядатаев моего клана и только такою ценой я получила возможность вольно передвигаться, бродить по разным улицам, жадно впитывая богатство внешнего мира, чтобы приобщить к нему моих подруг-загворниц, моих прабабушек, умерших задолго до того, как пришел их смертный час. Словно… Смешно, конечно, ведь я прекрасно знаю, что в каждом языке сокрыты свои кладбища, свои отбросы и нечистоты, и все-таки славлю пышные цветы языка бывшего завоевателя!
Писать — это значит на глазах у всех сбрасывать покрывало, выставляя себя не только на всеобщее обозрение, но и на посмешище… По улице движется королева, никому не ведомая, вся в белом, скрытая от глаз, но стоит савану из грубой шерсти, соскользнув с головы, упасть к ее ногам, до тех пор остававшимся невидимыми, и она сразу же превращается в жалкую нищенку, сидящую в пыли, осыпаемую плевками и насмешками.
В раннем детстве — от пяти до десяти лет — я каждый день ходила во французскую школу нашей деревни, а выйдя оттуда, шла в кораническую школу.
Уроки проходили в подсобном помещении бакалейной лавки, хозяином которой был один из деревенских старейшин. Я помню это место и царивший там сумрак — то ли потому, что уроки назначались на поздние часы, ближе к вечеру, то ли потому, что освещение было довольно скудным…
Образ учителя особенно врезался мне в память: бледное, изможденное лицо с тонкими чертами — лицо ученого человека; его содержали семейств сорок. Меня поражала элегантность учителя, изысканность его традиционного одеяния: легкий, безупречной белизны газ колыхался у него на затылке, украшая тюрбан; туника из саржи блестела как новенькая. Помню его сидящим по-турецки в ореоле ослепительной белизны с длинной палочкой, зажатой в тонких пальцах, — непременным атрибутом сельского учителя.
По контрасту с ним пристроившиеся на циновках мальчики — в большинстве своем дети феллахов-представлялись мне бесформенной, беспорядочной массой, из которой я себя исключала.
Нас было всего четверо или пятеро девочек. И думается, от остальных нас отделяла не столько моя высокомерная заносчивость, сколько принадлежность к женскому полу. Несмотря на весь свой аристократический вид, учитель, не задумываясь, взмахивал своей палочкой, чтобы ударить какого-нибудь строптивого или неповоротливого ума мальчика. (Я до сих пор слышу свистящий, точно от удара хлыстом, звук опускающейся на пальцы рук безжалостной трости.) Мы, девочки, были избавлены от этого привычного наказания.
Помню праздники, которые на скорую руку устраивала в нашей квартире мама, когда я, а потом и мой брат приносили ореховую дощечку, испещренную арабской вязью. Это была награда учителя за выученную длинную суру.[68] Мама вместе с деревенской «нянькой», которая была для нас второй матерью, отваживались по такому случаю на варварское, можно сказать, «ю-ю». Долгий, прерывистый крик с примесью гортанной воркотни казался совершенно неуместным в этом доме, где, кроме нашего семейства, жили семьи учителей-европейцев, — воистину дикий крик. Случай этот (то есть определенный успех, достигнутый в изучении Корана ее малышами) казался матери вполне подходящим, чтобы бросить древний клич предков в самом сердце этой деревни, где она между тем чувствовала себя в какой-то мере изгнанницей.