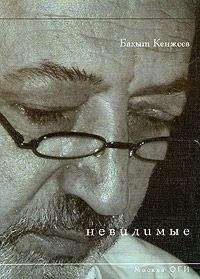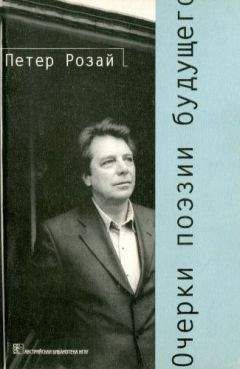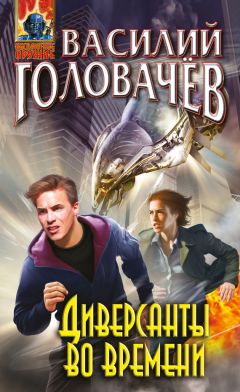Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 5 2007)
Старик наблюдает за смертью дерева. Его глаза слезятся.
Чайник вскипел. Старик опускает в чашку пакетик, потому что нелепо заваривать на одного. Очень многое нелепо для одного. Я представляю себе, что я не я, а просто девятнадцатый век ради интереса тянет щупальце в двадцать первый. Дотягивается, но еле-еле. Щупальце почти не шевелится и уж точно не нащупывает ничего интересного.
Мою улитую желтым светом квартирку ласково обвевает ураган. Я в капсуле. Я в домике. Я могу перейти из кухни в комнату, из комнаты — на кухню. Мне доступна тысяча простых операций. Эта тысяча отделяет меня от небытия… забытия…
Не пора ли подвести итоги? Сомерсет Моэм сделал это в шестьдесят — я намекал ему, что он поспешил, но он предпочел с истинно английским высокомерием пренебречь намеком. Моэм дожил до девяноста. Но мне в мои не скажу сколько (потому что выгляжу, как говорят льстецы, не старше девяноста) заведомо пора. Если не поздновато. Хотя… что сумел, сделал, что не сумел, попытался, а из ненужного постарался извлечь опыт.
Это какая-то эпиталама, а не итог.
И тут происходит вот что: каким-то образом рассеиваются облака, вероятно, не поспевая за ветром, и ударяет горизонтальный луч, высвечивая кварталы у горизонта. Небо темно-фиолетовое, а кварталы белые, просто сверкающие, такая красота — что только живи и смотри.
Живи и смотри…
Февраль 2006.
Детский метроном
Кенжеев Бахыт родился в 1950 году. Окончил химфак МГУ. Поэт, прозаик, эссеист. Живет в Канаде. Лауреат новомирской премии “Anthologia” (2005).
* *
*
Елене Игнатовой.
В тщетном поиске рифмы к Некрасову, в честной бедности дар свой виня,
погляди в интернете “саврасого” — не художника, просто коня, —
мигом выйдет война партизанская, талый снег да родильницы стон,
пожилая лошадка крестьянская с черной гривой и жидким хвостом.
А по Лиговке пьяные писари ходят-бродят, шатаясь, ложась,
как на родине водится исстари, в придорожную мягкую грязь,
и храпят по казармам рабочие (руки-крюки, колтун в волосах),
и пружинка скрипит в позолоченных, недешевых карманных часах.
Леденец прохладительный — за щеку. Что за шум? Не свергают ли власть?
Заговорщика дворник с приказчиком волокут в полицейскую часть.
То кричат ему: “На-кася выкуси!”, то — в лицо кулаками! Еврей,
из студентов. Ах, сколько же дикости в нашем темном народе, Андрей!
До сих пор ли, глухая кормилица, поутру повзрослев невпопад,
твои школьницы носят в чернильнице ненадежный растительный яд?
Недоспали, напутали сослепу — холодей же, имперский гранит,
где савраска, похожий на ослика, на петровскую лошадь глядит...
* *
*
Шелкопряд, постаревшей ольхою не узнан,
отлетевшими братьями не уличен,
заскользит вперевалку, мохнатый и грузный,
над потухшим сентябрьским ручьем.
Суетливо спешит, путешественник пылкий,
хоть дорога и недалека,
столько раз избежавший юннатской морилки,
и правилки, и даже сачка.
Сладко пахнет опятами, и, по прогнозу
(у туриста в транзисторе), завтра с утра
подморозит. А бабочка думает: грозы?
Наводнение? Или жара?
Так и мы поумнели под старость — чего там! —
и освоили суть ремесла
сообщать о гармонии низким полетом,
неуверенным взмахом крыла.
Но простушка душа, дожидаясь в передней,
обмирает — и этого не
передать никому, никогда, ни на средней,
ни на ультракороткой волне.
* *
*
…тем летом, потеряв работу, я
почти не огорчился, полагая
заняться творчеством: за письменным столом,
что твой Толстой в усадьбе, скоротать
хоть год, хоть два, понаслаждаться тихим
жильем, покуривая на балконе
и созерцая свой домашний город —
двух-трехэтажный, с задними дворами,
засаженными мятой и жасмином.
Какое там! На третий день внезапно
какие-то поганцы по соседству
затеяли строительство — орут,
долбят скалистый грунт с семи утра
до сумерек.
Грязь, пыль. Глухой стеною
в желтушном силикатном кирпиче
закрыли вид из окон. Повредили
столетний клен, который поутру
развесистыми ветками меня
приветствовал.
Беда, друзья, беда.
И улетел в Москву я с облегченьем:
меня пустили в бывшую мою
квартиру, окруженную старинным
подковообразным зданием; лет шесть
тому назад его крутые парни
в разборках подожгли, да так и не
восстановили. Вот где тишина,
мечталось мне.
Но к моему приезду
соперники поладили, а может,
их всех перестреляли, словом, дом
обрел хозяина. На третий день
во двор заполз огромный экскаватор,
который, грохоча, с семи утра
ковшом вгрызался в каменную кладку,
обрушивал ржавеющие трубы
и балки полусгнившие крушил
до сумерек.
Кому-то это праздник —
а мне так жаль чужих ушедших лет,
жаль тех, кто в этом бывшем доме
варил борщи, листал свой “Крокодил”
да ссорился с соседями... Жена
звала к себе, в другой столичный город,
в квартиру, что рокочет даже ночью
от уличного шума. Что ж, привыкну,
подумал я. Не тут-то было — стройка
добралась и туда. Все здания окрест
в лесах, с семи утра бетон мешают,
и буйствует отбойный молоток.
Не много ли случайных совпадений?
Зачем протяжный грохот разрушенья
и созиданья, словно медный всадник,
за мной несется по свету? Ужели
чтоб снова я в незыблемости жизни
(в которой мы уверены с пеленок) —
раскаялся?
Грохочет новый мир,
а старый, как и я, идет на слом,
как тысячи миров, что на сегодня
остались лишь в руинах да на ломких
страницах книг о прошлогоднем снеге
* *
*
не мудрствуй ни жить ни верстать не обучен
не злись я освою навряд
разлуку играть среди зорких излучин
где влажные звезды звенят
будь проще будь ласковый морок для ближних
бесценная тень и вообще
любой собутыльник небрежный булыжник
забывшийся в смертной праще
бензином весна и дорожкою скатерть
чин чином прохладной виной
любой именинник пустой соискатель
любовница вербы ночной
лиловые тучки беззвездные ночки
хворал до сих пор не окреп
печальная женщина в белой сорочке
пекущая греческий хлеб
* *
*
Зачем придумывать — до смерти, верно, мне
блуждать в прореженных надеждах.
Зря я подозревал, что истина в вине:
нет, жестче, поразительнее прежних
уроки музыки к исходу рождества.
Смотри, в истоме беспечальной
притих кастальский ключ, и караван волхва
уснул под лермонтовской пальмой.
Так прорастай, январь, пронзительной лозой,