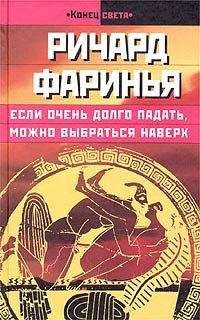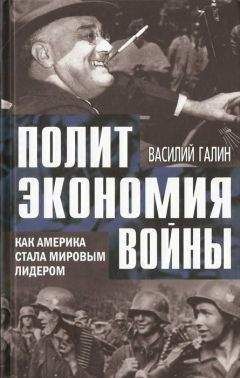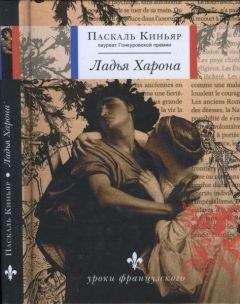Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
И наконец, я вспоминал о ее нежной любви к цветам, которую она передала мне. Может быть, я даже обязан ей особым отношением к тюльпанам. С тех пор я всегда раз в два-три дня приношу домой букет цветов. Это ведь тоже свидетельства дружбы, и в том факте, что мы по собственному почину делаем себе подарки, наверняка есть нечто разумное и естественное. Мне кажется, они призваны поддерживать наше самоуважение, хотя это требует большого усердия и предполагает хотя бы минимальное владение искусством фокуса. Я всегда обожал и доселе обожаю покупать вазы – слегка старомодные, отнюдь не блистающие безупречным стилем, а то и попросту нелепые, заранее предвкушая, какой радушный прием окажу им у себя дома. В отличие от животных растения не обладают нервной системой, – прошу прощения за столь банальную истину. Вследствие этого они стоят выше нас на лестнице божьих созданий. Некоторые особо меланхоличные люди не могут смотреть на растения без слез.
Не знаю почему, но смерть мадемуазель Обье совпала с самым мрачным периодом моей жизни. Все меня угнетало. Я отдалялся от наиболее светских, наиболее празднословных друзей. Перестал даже видеться со своей сестрой Элизабет (примерно раз в два месяца она приезжала из Кана в Париж и останавливалась в своей роскошно обставленной двухкомнатной квартире на улице Сен-Доминик, которая не шла ни в какое сравнение со студией, принадлежавшей нам, всем пятерым, в Штутгарте), не в силах выносить ее нескончаемые рассуждения о красоте, науке, обществе, воспитании, психоанализе, политике, Боге, цивилизации, любви, – слоном, обо всем на свете.
Какой-то злобный бог – да и бывают ли добрые боги?! – весьма похожий на гладиатора (я всегда терпеть не мог римлян!), набросил на меня свою сеть, не удостоив даже пронзить мне горло трезубцем, и протаскал по арене энное количество месяцев. Я был для него мирмиллоном,[73] иными словами, противником, увешанным громоздкими доспехами, с тяжелым щитом в руке и в шлеме с забралом, а следовательно, заранее обреченным на гибель. В то время я изредка встречался с Катариной Убманн – когда она приезжала в Париж. Я страдал до потери рассудка. У мужчин есть внизу живота некий орган, как бы подвешенный к примитивному подобию вешалки; он свободно болтается на ней, точно одежка на гвозде, которая, стоит открыть дверь или окно, вздувается подобно парусу на ворвавшемся незваном сквозняке.
Мне только-только исполнилось двадцать четыре года. Я был еще совсем ребенком. Дети и подростки не понимают, что страдание долго не длится, – конечно, при условии, что вы сами не подпитываете его, находя в этом горькое удовольствие. Моя сестра Лизбет вознамерилась потащить меня к урологу, к неврологу, к монаху дзен-буддисту. Да я и впрямь был совсем плох. Я работал непрерывно, день и ночь, – но пребывая в состоянии острой депрессии, одурев от лекарств и от желания умереть, умереть во что бы то ни стало. Я был Иовом. Я подходил к пределам Аравии и страны Едома.[74] «Зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы?»[75] Но мне никто не давал «сосать сосцы». Да и принимали ли меня чьи-нибудь колени?! Если можно было бы положить на весы все мои боли, все боли, что терзали все члены моего тела, они перевесили бы весь песок со дна морского.
Катарина мучила меня так же, как Лизбет. Она требовала, чтобы я лечился. Чтобы я чем-нибудь занял руки.
«Карл, необходимо содрать обои в спальне и все перекрасить. И еще привести в порядок прихожую. И еще необходимо…»
Но мне все обрыдло. Я так страстно желал ее отъезда, что даже намекал ей на это. Я окончательно лишился сна из-за желания уснуть, из-за желания умереть. Говорят – и в это нетрудно поверить, – что воспоминание о несовершенном поступке ищет себе утешение и оправдание в подобии смерти, в дурманном забытьи. По крайней мере, несбывшееся желание слепо нащупывает опору в энергии, которая все еще питает его, не перестает тревожить. Долгие месяцы я лежал по ночам без сна, ловя широко открытыми глазами длинные лучи света, – их отбрасывали фары машин, проносившихся по набережной. Это стало моим основным занятием – пожалуй, единственным, представлявшим для меня хоть какой-то интерес. Узкие желтые конусы проникали в щели ставней, поверх деревянного карниза с желтыми бархатными портьерами и неспешно скользили по потолку взад-вперед, как маятник гигантского метронома. Эти лучи освещали комнату не так долго, чтобы можно было явственно определить контуры предметов в полумраке, но гасли не так быстро, чтобы, исчезнув, каждый раз не создать впечатления, будто вся комната погружается в смерть.
По правде говоря, я вдруг обнаружил, что зря старался, перебирая вновь и вновь эти воспоминания: на самом деле то угнетенное состояние, которое мне так хочется забыть и мысль о котором до сих пор мне крайне тягостна, было вызвано не только смертью мадемуазель Обье. Это была еще и смерть Дидоны, три месяца спустя. Ей исполнилось всего два года. И я мог ждать чего угодно, только не этого. Смерть Дидоны стала для меня полной неожиданностью. Я нашел ее в кухне, за холодильником, в лужице, издававшей едкий запах тления. Это случилось 12 марта 1967 года. Я буду помнить эту дату вечно, до тех пор пока окончательно не выживу из ума. Хотя в то же время именно эту смерть я пытался забыть – или отказывался принимать. О боже мой! Что со мной было, когда я сунул руку под вялый животик Дидоны, моей малышки Дидоны, которую так любил! Той единственной, которая меня любила!
Вот тогда-то, после смерти Дидоны, я и впал в состояние, которое мой врач диагностировал как нервную депрессию. К тому же в это время умерли Стен Лоурел и Джозеф Бастер Китон.[76] В общем-то, моя болезнь напоминала не депрессию, а, скорее, мрачную бездну. Которую я не назвал бы нервной: скорее, то была бездна апатии, в которую я погрузился с головой.
Я любил Дидону. Кого я любил – мог бы любить – сильнее, чем ее? Кого буду любить больше ее? В этой кошечке воплотились многие давно умершие существа. Возьмись я определить это точнее, я бы сказал, что в ней было пять сотых от моей матери – лучшая часть моей матери, с ее безжалостным взглядом и полным отсутствием сострадания; двенадцать сотых от юной швабки из Вальденбаха, крепенькой, горячей шалуньи, согревшей своим озорным смехом мое детство; пятнадцать сотых от сестры Марги, собиравшей в своей комнате, когда она была девочкой, всех беспризорных котят в округе; двадцать сотых от Ибель, с ее веселостью, о ее причудливыми повадками; десять сотых от Андре Валасса, который мне ее и подарил, и пять сотых от его жены Луизы, а еще от кондитерской «Дюшениль» и от комнаты, которую мне в течение года было дозволено снимать в Сен-Жермен-ан-Лэ. И еще тридцать сотых от возлюбленной Энея, чье имя она носила, и которая возненавидела жизнь, предпочтя распрощаться с белым светом, после того как пришлось распрощаться с мужским телом. Ну а сама Дидона – настоящая, другая, непредсказуемая Дидона-кошка – составляла три сотых процента. Я завернул ее в один из своих свитеров. Как ни странно, я выбрал самый свой любимый – просторный пуловер из ангорской шерсти, пушистый, бесформенный, ласковый, зеленого «венецианского» цвета. И бережно уложил эту безвольно поникшую и кажущуюся теплой мумию в сумку от «Пюньо». Стыдно признаться, но я несколько раз проверил, действительно ли красивое тельце Дидоны мертво, не вздрагивает ли оно, не дышит ли. Я поцеловал ее. Потом спустился по лестнице и опустил этот маленький черный трупик в мусорный бак. Я любил ее. Кошка, живой, теплый, дышащий груз, неожиданно вспрыгивает на вас, давит вам на живот, напоминает о том, что вы еще живы, тогда как вы уже и забыли, на каком вы свете. Кто же теперь возьмет на себя эту заботу? И кто отнесет меня на помойку?
Не могу даже описать, какое горе причинила мне ее смерть. Один из бесчисленных и крайне тревожных симптомов, сопровождавших эту депрессию, состоял в том, что моя правая рука непрерывно зудела, когда я думал о Дидоне. Это доставляло мне большое неудобство при игре на виолончели или на виоле, – хорошо еще, что это была правая рука, которая держит смычок. Я пишу эти строки, а она все еще зудит, словно сохранила, вопреки смерти Дидоны, привычку к ее шерстке, к ее теплу, к ее хрупким косточкам под кожей, словно сохранила в себе, вопреки всякой логике, надежду на прикосновение к живому кошачьему тельцу и тщетный порыв к проявлению любви.
Между двумя мгновенными, ослепительными проблесками, которые вот-вот должны были прочертить на потолке (в чем я был твердо уверен и чего ожидал со страстным тупоумным нетерпением и вытаращенными глазами) фары очередного автомобиля, меня посещал самый старый из ночных кошмаров: бессонница никогда не бывала настолько полной, чтобы милосердно уберечь меня от них. Передо мной вставало дерево – огромное, пузатое, трухлявое, лишенное сердцевины и кишащее уховертками. Этот кошмар был символом рока – не для музыканта, преследуемого уховертками, криками, хриплыми вздохами и божествами, которых он тщетно пытается задобрить, но для спящего человека, преследуемого уховертками и решившего стать музыкантом. К страшному ощущению какофонии пронзительных звуков, которые силился отринуть измученный слух, примешивался иногда другой кошмар, помельче, – вполне конкретный кошмар виолончелиста: моя раздробленная левая рука, моя левая рука, лишенная пальцев. Передо мной непрестанно маячила железная рука Геца фон Берлихингена, – ее можно увидеть в Шентале.